Школа "анналов": в поисках утраченного факта.
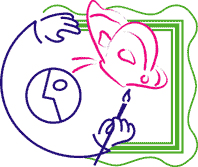
Б.Окуджава
Разговор о французской исторической школе «Анналов» и о том личном исследовательском поиске, который она принесла с собой в историческую науку, освежив пропыленные текстологические хранилища, хочется начать издалека, - из литературного сегодня. В «Русском журнале» не так давно, была опубликована примечательная работа И. Роднянской «Ловцы продвинутых человеков ( О «Евразийской симфонии» Хольма ван Зайчика)». (Давно уже не секрет, что создатели проекта «великого еврокитайского гуманиста Хольма ван Зайчика» фантаст Вяч. Рыбаков и издатель-синолог И.Алимов.) Описываемая ван Зайчиком « Ордусь», - вариация на тему альтернативной истории. Историко-фэнтезийная империя-гибрид, она создана на 80% из конфуцианства, к которому привит дичок, или «шутка» - российской действительности. Такая, избирательная китайщина, быстро заполняет «медом» исторические ниши, специальным образом «выдолбленные» в исторической коре. Если правда то, что гибриды второго поколения дают или гениев или уродов (что не может не чувствоваться уже на гибридах первого поколения), то, будь возможна повторная гибридизация, уже «Ордуси», должен вывестись выраженный гений Востока и гидроцефал русского евразийства.
Но вопросы критиков вызывает не Зайчик-художник, а Зайчик-историк, точнее, его идеологический выбор. Последовательно, шаг за шагом, ценность за ценностью, Роднянская показывает формальную механику бестселлера, верно рассчитанный ван Зайчиком выбор идей и их аудитории: «подключение фобий», «учет интеллектуальных мод и интеллигентских норм», «лингвистическая составляющая» («китаизмы», «забава ложными этимологиями»), «беспроигрышная компаративистика» третьего пути, «надконфессионализм». Как, другими словами, ван Зайчик подкупает «продвинутого» читателя.
Может быть так делается бестселлер, не «национальный», а «продвинутый», но вот по ходу чтения возникает вопрос: разве автор не вправе занимать в своём произведении (проводить) некоторую нескрываемую, (неупрятанную), а иногда и откровенную - позицию ? Иначе он рискует остаться нерасслышанным и невысказанным, тем предельным автором «индивидуума» ( в том числе героя-индивидуума), который ни от чего так и не отличился и ни с чем себя не сравнил. Потрафляет ли писатель интересам "продвинутой" публики, потакая её идеологическим ожиданиям, или сам «эффективнее» начинает их выражать?
Роман ван Зайчика всё-таки не коньюнктурен. Там, где угадывается формальный идеологический расчёт, тут же стартует весёлое художественное вдохновение. Можно предположить, что И. Роднянской не по душе не столько сама по себе безнравственность использования ходких идеек, или нечистоплотность совместимости позиций, сколько формальная лёгкость художественного приёма - ведь обсуждаемый роман по существу своему представляет исторический проект. Исследование идеологических возможностей истории. А раз так, он вовлекает читателя в исследование исторической ситуации. И тут возможно философская, критическая рефлексия над современным мифом, идеологически выразившемся в «Ордуси», но так мы окончательно рискуем утерять связи, которые создают художественный текст, а не идеологический под-текст.
Сходное впечатление, - ценностного заигрывания и «подкупа» читателя - производит перечитывание «Заката Европы» Освальда Шпенглера. Со временем, в этой книге открываются множественные метафорические подтасовки и упорные морфологические «подтяжки». Всё более непонятен пафос, с которым факты и события истории подвергаются сравнению и выделению качественных новообразований. В сущности, Шпенглера не интересует факт и понимание исторической ситуации, ему важно выделить уникальную пра-форму. Почему ? Потому что историческое событие несёт по Шпенглеру не символический, открытый нам смысл, а смысл нам закрытый, и становящийся смыслом лишь внутри выделенных культурных пра-форм. Причём род феномена ему также предварительно не важен - это может быть лингвистическая структура, вещь, ритуальная форма, всякое являющееся вообще. Однако история это не растение Гёте, и даже не цветочная клумба в его саду. Если человек не ботаник и не наблюдатель, а её участник, историческое содержание становится ему не чуждо в гораздо большей степени. Будь то Библейский вероучительный смысл, признание её внутренней диалектичности или ответственное исследование исторических обстоятельств.
Первый том «Заката Европы» «Гештальт и действительность» появился 20 апреля 1918 года ( создавался в 1912-1917), ненамного опередив поражение Германии в первой мировой войне. Если иногда говорят:«Философия - это стиль», то стиль «Заката Европы» уже не философия. Трудно найти другую книгу по истории культуры, настолько же вобравшую в себя позитивистический строй своей эпохи. Однако, данные исторической науки и популярные сведения из других наук Шпенглеру важны только как материал для образа. Этот материал, по Шпенглеру, ищет завершения в разные исторические времена ( становится, это стремящееся начало «души») и находит его, оформляясь в законченную культурную морфему, в устойчивые культурные феномены ( в ставшем, в «мире») Отсюда сквозной морфологизм, занятый образами образов и стремлением стремлений. Увлекаясь и греша неточностями, он доходит порой до шокирующей неправоты, ещё более выражающей внутреннюю «физиогномику» морфемной динамики. Так, вместо современной профессии философа выдвигается образ новоевропейского ума:
«.. усматриваю пробный камень ценности мыслителя в его зоркости к великим фактам современной эпохи. Только здесь и решается впервые, есть ли имярек лишь ловкий кузнец систем и принципов… - или это сама душа эпохи ( !sic, -М.К.) глаголет из его произведений и интуиций. Философ, не способный, ко всему прочему, схватить и обуздать действительность, никогда не будет первоклассным… Ни с одним из них не приходится хоть сколько-нибудь считаться в области математики, физики, общественно-политической науки, как это было ещё в случае Канта…»
Живой предприимчивый ум, реалистичность, практичность мысли, даже универсализация - всё это отчасти до сих пор характеристики европейского ума, и Шпенглер это видел яснее других.
Что же, на многое читателю-европейцу «Закат Европы» прольёт свой «беспощадный» свет… Однако к году 2000, приходится отряхиваться от позитивистического эстетизма и морфологизма в гуманитаристике. И в наиновейшей дисциплине, получившей название «культурологии», нельзя не видеть вторичности и производности от исторического, философского, научного состояния предмета. Думается, шпенглеровская и подобные попытки культурной морфологизации, пребывают в состоянии определенной исторической парадигмы вообще. Кажется, что историческую эпоху раскрывает приближение, погружение в неё. Мир иной культуры прежде хочется понять как универсальный мир, возникающий как препятствие на пути историка. И уже в этой универсалистской связи толкуются отдельные его факты и события. Между историком - и бессмысленным фактом создаётся промежуточное герменевтическое звено, культурная структура, где всё, или почти всё, может быть до-понято.
На циклы и эпохи историю делили всегда. Хотя, даже такая общепризнанная периодизация, как история «новая» и «новейшая», или истории «просвещения» и «возрождения», подразумевают значительный культурный смысл. Мы можем, конечно, принять условия этой предварительно разграничивающей стратегии в историческом описании, например, в качестве удобных помощников или имея их где-то всё время в виду, но, внедрившись в толщу истории глубоко, мы невольно утеряем контроль над ними, ведь там нас встречает гораздо более богатый содержанием исторический факт, событие, ситуация.
Другая парадигматика в историческом познании как раз не стремится «приближаться» к неизвестному факту кажущихся известными эпох. Она стремится, мало помалу отстраняясь от вне-исторических моментов и предрассудков, из сегодня, из сейчас, внятно ставить и отвечать на исторические вопросы. Не исследование «исчезающих» фактов, а интеллектуальное исследование как ответ на исторически актуальный вопрос-проблему. Всё дело в том, что сообщает познавательную энергию историку - далёкий «мерцающий» факт, текст, полуистлевший манускрипт , т.е. археологическая вещь, источник, - или «чреватый» пониманием, исторически интригующий вопрос. И в этом втором случае, историк напоминает «аналитика» одного вопроса, или писателя-монографиста, привлекающего в круг понимания всё, - последние данные науки, любые источники, собственную личную жизнь ( почему нет?), в ответе на вопрос истории. Здесь важно приблизить к себе не факт, «канувший в лету» - а понимание, внутри которого этот факт как-то начинает себя проявлять. Актуальность исторического вопроса, а не герменевтика источника становится главным для учёного. Как будто история задала этот вопрос ему - персонально.
Историософия как эстетическое самовыражение эпохи.
Вызов «Заката Европы» начинает сказываться внутри того же переплёта. Нет комментатора, который публикуя Шпенглера, не пускался бы с ним в примечаниях в спор, на который переходит постоянное уточнение «деталей». Комментатор поначалу терпит его «выходки», исправляя факты, затем начинает приводить другие мнения, а потом сам начинает делать то критические замечания, а то язвительные выпады «против». Вскоре, впрочем, смиряясь с судьбой комментария, который надо вести до самого конца. Таков например, комментарий К. Свасьяна к изданию 1 тома «Заката Европы» за 1993 год. Тоже впечатление оставляет энциклопедическая критика С.Аверинцева, чьи примечания к трём главам из книги Шпенглера насчитывают 15 страниц мелкого текста, вступая в своеобразный диалог с публикуемым отрывком. Чтение Шпенглера - личный вызов. Но чем больше проходит времени со дня создания книги, тем этот вызов приблизительнее и тенденциозней. Не имея ни сил, ни места тягаться со Шпенглером в отдельных оценках, хочется выделить те главные установки, которых он придерживался в своём гештальт-анализе.
1) Морфологизм. Чем же Шпенглер «подкупает»? Частичностью сходства: с читателем-«физиологом», с «математиком», с «инженером», и т.д. Синкретичность великая вещь. Читатель-«архитектор» половину архитектурных сравнений Шпенглера отметит как неточные, зато за другую половину он его похвалит, ведь с их помощью он узнает смежные, (по Шпенглеру смежные), но не знакомые до сих пор предметы и дисциплины. Что до чисто математических, биологических, философских анализов и гипербол, читателю-архитектору достаётся и вовсе «холостая», созерцающая работа, приводящая этот невнятный «культурный хаос» в состояние знакомого порядка, за что он будет также благодарен.Сам морфо-постигающий принцип книги, находил в читателе благоприятную почву, в виде общих приоритетов естественно-научного опыта и технологического поиска, ещё очень долго.
Стилистически морфологизм движется по спирали, логически не возвращаясь на уже отличённое и пройденное место. Цепочка метафор кружит, подобно птицам над разорённым гнездом, не находя себе ветки. Типична в этом отношении глава «Аполлоническая и фаустовская душа». Спираль метафор и до-определений раздвигает сами размеры и оценки сравниваемых вещей. А неточности Шпенглер простил себе сам, загодя, когда упрекал философов за догматизм их философских систем:
«Непреходящесть ставших мыслей - это иллюзия. Существенное заключается в том, какой именно человек обретает в них лицо. Чем значительнее человек - тем истиннее философия - в смысле внутренней истины великого произведения искусства, что нисколько не зависит от доказуемости и даже непротиворечивости отдельных положений.
По сравнению с этой «внутренней истиной искусства» набор исторических деталей, которыми оперируют простые историки, выглядит разносортицей, сырым неподготовленным материалом. Морфология вовлекает в идею «Фаустовской Души» почти все сколько-нибудь значимые для Европы XIX века явления и факты. Всё нашло своё место в этом бесконечно-пространственном европейском духе, пронизанном государственным, политическим, ландшафтным и технологическим образами самореализации и самоощущения. А что не нашло - того нет. Это заставляет вспомнить избирательные методы современного критика хронологии А.Фоменко, но у Шпенглера избирательность не механически-статистическая, а более сильная, органическая, сам намеченный образ «ищет» у Шпенглера форму свершения.
Шпенглер и себя подстёгивает найденными фигурами «фаустовской» оценки, он лично выступает навстречу всем ветрам эпохи, с воистину профетическим рвением устанавливая себя в позицию культурного оглашателя. Думается, если бы он констатировал, что живёт не в фаустовской, а в арабской культуре, то прервал бы свой труд, заявив, что ещё не должен родиться его читатель.
2) Феноменализм. («Проблема мировой истории», «1,Физиогномика и систематика»). Повсюду подразумеваемыми, универсальными, являются упомянутые категории «души, душевного», - как становящегося, и ещё только возможного, - и «мира, действительности», как ставшего, и уже исполненного. Они отыскиваются в гештальте истории/природы, на стыке формо-творения, в процессе осуществления «души» в «мир», внутренне присущего - в действительность. Как пишет Р. Гальцева, «исторический феномен есть излюбленный предмет его мыслей…Шпенглер резко противополагает историю природе и даже выстраивает ряд соответствующих антитез…природа и весь ставший мир описывается в понятиях «причинность» и «пространство», а культурно-историческое бытие, оно же становящаяся душа, - в словах «время», «судьба», «жизнь».Однако, несмотря на заявленный панисторизм, именно природное мышление выплывает в итоге из подпочвы шпенглеровской мифологемы. Культуролог переносит гетевский принцип морфологизирующей физиогномики - метод созерцания живой природы - за пределы естественного мира, на арену исторического существования.»
Именно это подтвердил когда-то другой, более деятельный последователь Гёте, Р. Штайнер, в своём раннем «Очерке познания мировоззрения Гёте» (1886): «Феномен, в котором характер процесса вытекает непосредственно и с прозрачной ясностью из природы рассматриваемых факторов, мы называем первичным феноменом или основным фактом. Такой первичный феномен тождествен с объективным законом природы. Ибо в нём выражается не только то, что при определённых условиях совершился некий процесс, но и то, что он должен был совершиться. Мы поняли, что он по природе сюда относящихся вещей должен был совершиться.» Такова эта нехитрая органика являющегося феномена природы.
Шпенглер признаётся ( и это не реверанс в сторону гения, а чистая правда): «Философией этой книги я обязан философии Гёте.». Причём, в немалой степени уподобление было самой личности великого немца, «сторукой» и «тысячеглазой» (Эмерсон). Это главный пункт, на который подсознательно подкупается европейский читатель, - жизненный универсализм самой личности И. Гёте. Как известно, рождению гётевского прафеномена (он же протофеномен, первофеномен) мы обязаны многолетним исследованиям «Человеком-Культурой» природы цветности. Великий Гёте называет прафеноменом: магнит, характер, спиральную тенденцию роста растений, электричество, приближение дна, рассматриваемого при погружении перпендикулярно. (Это всё.) Афористически Гёте сказал:
Первичный феномен: идеально-реально-символично-тожествен. Идеален как последнее познаваемое; реален как познанный; символичен, ибо охватывает все случаи; тожествен - со всеми случаями.
Исследование выделенных Культур простирается и в будущее. Шпенглер сигнализирует упадок и конец Европы. Это, как известно, в основном и наделало шуму после выхода книги, достаточно вспомнить у нас в России реакцию веховцев. Наконец, концепция Шпенглера есть психологизация, одушевление культуры. Душа, психэ, «психическое» в его начальном оппонировании «мышлению», с самого начала избрана как текучая стихия жизни, как морфологический механизм души, владеющей и заключённой в своём теле. Он задаётся вопросом: «как явление действительности может быть не только фактом, но и выражением душевного»? И в исторической таблице «Зима» вычерчивает такую суб-характеристику, как «угасание душевной творческой силы». Расцвет психологической науки начала века, не мог не стать для Шпенглера лабораторией точности жизне-восприятия. Его собственная «фаустовская душа» выросла на этом экспериментальном поле.
В Европейской культурной истории начала ХХ века примеры неожиданной относительности ещё вчера казавшихся незыблемыми ценностей, всё множатся, уплотняя сумму культурно-исторического скепсиса. После полубезумного «Опыта переоценки всех ценностей» Фридриха Ницше, чьё первое издание увидело свет в первом же году нового века, рефлексия историков культуры стала зашкаливать. Прежде чем о ценности что-то говорили, её «досматривали». На такой «культурной таможне» переоценивался сразу весь континуум культуры, кромсали всё культурное «тело» новейшими научно-психологическими скальпелями - гештальт-анализом, психоанализом, теорией сновидений, бихевиоризмом, кромсали на части тело, итак давно неподвижное и протянутое на историческом столе. Истории чахли в затверженных отвлечённых фактах. Даже на этом фоне концепции историософов, то есть историков , занятых не материалом, а его обобщением, производят наиболее спекулятивное впечатление. Чем дальше, тем больше становятся нам видны точка, из которой такой астроном-историософ смотрел сквозь облачное небо на далёкую проблему, и проплывшая над нашей головой туча, которую он за эту проблему принимал. Как только небо слегка расчистится, заметно, как на него набегают новые облака.
Глядя на судьбу «Заката Европы» Шпенглера, как и на исторические судьбы схожих глобально-исторических проектов, нельзя не замечать их связанность, ограниченность эпохой, её культурой, наукой. Уже поэтому они обречены уступать место. Когда-то обыкновенный историзм, оглядку на своё время-культуру, они гипертрофировали до размеров универсального полотнища описывающей себя Культуры. Но со временем, что же осталось от них? - Не история наук, уходящих как правило в сторону, а - искусство обобщения культурного материала. Готовый образ эпохи - в том числе научный, культурный, исторический. Найдётся ли и он ? Ведь и современный историк культуры связан точно также своею эпохой. Будет ли в состоянии он представить чужой образ Культуры, полностью отстранившись от собственного? Если не от собственной культуры? На это надо ответить скорее «да», чем «нет», - «как художник художника». Когда восприятие образа чужой культуры становится для него того же рода искусством воссоздания культурно-исторических форм, поиска целостных культурных смыслов, «чутьём формы», а не вниманием к исторической материи. Историософию возможно представить, как и любой образ, но невозможно передать существующей исторической науке. И значит, сами по себе историософские результаты пропадают для историка.
Такова судьба историософических бабочек-однодневок: живут лишь один светлый день современности, во всю эстетическую мощь расправляя тонкие крылья своего времени-культуры. От бабочек остаётся удобно размещённая коллекция крыльев в альбоме . Чем стали иные перспективные позиции? Почвенничество Н. Данилевского в «России и Европе», культурные морфологемы Шпенглера, Тойнби, осевое время больших Культур К.Ясперса, теория пассионарной активности Л.Гумилёва и др. - все остались свидетелями самовыражения своих эпох. Теперь им равно принадлежать истории, и новому историософу они тоже нужны в этом качестве фактов культуры, а не сами-по-себе. Сам историософ должен понимать такое положение «у времени в плену». Шпенглер его сознавал прекрасно, начиная главу «Проблем мировой истории» с положения: «Дистанция от предмета - вот чего недоставало здесь ( в суждениях историков, - М.К.) до сих пор.»
В 1929 году вышел первый номер журнала «Анналы экономической и социальной истории». Вокруг него, провозгласившего новые исторические ориентиры, объединились историки, социологи, филологи. Но известно, как осторожно школа Анналов, эта Новая историческая наука, относилась ко всякого рода философиям в истории. Её основатели и первые редактора журнала, М.Блок и Л. Февр, с прямой предубеждённостью относились не только к всеобъемлющим построениям Гегеля, Маркса, Тойнби, Шпенглера, но и к гносеологически близким анализам Риккерта и Макса Вебера. Почему, казалось бы - разве исторический «эмпиризм» не являлся для «Анналов» подоплёкой научной строгости? Разве не этот новый эмпиризм предвидел Шпенглер, когда писал о необходимости «со всей серьёзностью делать ставку на научно урегулированную физиогномику…то, что каждое явление представляет метафизическую загадку самим фактом своей расположенности в никогда не безразличном к нему контексте времени, что, ко всему прочему, приходится спрашивать себя, какая ещё живая взаимосвязь, наряду с неорганически-законоприродной, существует в картине мира - будучи излучением, конечно, всего человека, а не только как полагал Кант, познающего, - что явление представляет собой не только факт в призме рассудка, но и выражение душевного, не только объект. Но и символ…»? Школа «Анналов» могла согласиться лишь с первой частью этого высказывания, с «небезразличием контекста», со второй - с душевно-символическим фактом - никогда. «Философобия» и поныне остаётся устойчивой чертой французских историков.
«Анналы», точнее, историки, разделяющие его историко-методическую подходы, имели в виду эмпиризм иного «рода». Традиционной истории-повествованию Люсьен Февр противопоставил историю-проблему. Не источник, объективно данный в тексте, и не сам текст источника - а проблема, понятая как здесь и сейчас формулируемый учёным вопрос - таков найденный им новый вход в историю, его интеллектуальный гносеологический заряд. Но тогда вход этот может открываться отовсюду, где ощутима проблема. Что до источников, не то чтобы они больше не нужны - они не важны в той степени, как раньше, при истолковании конкретного текста источника. Важным стало раскрытие проблемы в её попутных исторических связях. Этим объясняется и выбор источников и интеллектуальное внимание нового историка. Понимание это «подогревается» актуальностью проблемы. Отсюда социологизация исторической ситуации, ещё на раннем этапе «Анналов» при Марке Блоке. Историк, при всей камерности своей науки, впервые становится познающей историю личностью. Кроме того, историческое исследование получает «невидимого», подразумеваемого свидетеля в изучаемой эпохе, - по существу, один человек, историк, пробует понять поступки другого. Его психологию, поведение, ожидания окружающих от него. Таков антропологический эмпиризм поздней школы 60-80-х годов.
Историки «Анналов» постепенно совершают «тихую» революцию в исторической науке, "изнутри" всё выглядит как кропотливая и планомерная научная работа над давно известными фактами. Методологические предпочтения и регулярно выходящий журнал постепенно определяют общую направленность, создают школу. Хотя о внутреннем единстве на протяжении тех семидесяти лет, пока она плодотворно существовала и развивалась, говорить конечно, не приходится. В послевоенный период например, школа изменялась от «экономической и интеллектуальной истории к «геоистории», исторической демографии и истории ментальностей, переросшей со временем в историческую антропологию» (Питер Бёрк). А Жак ле Гофф (р.1924), крупнейший историк-мидиевист и нынешний её глава, видит параллелизм тех же тенденций: «история ментальностей и историческая антропология никогда не смешивались. Они сложились одновременно. Но соответствовали разным целям и объектам. Историческая антропология представляет собой общую глобальную концепцию истории. Она объемлет собою все достижения «Новой исторической науки», объединяя изучение менталитета, материальной жизни, повседневности вокруг понятия антропологии. Она охватывает все новые области исследования, такие как изучение тела, жестов, устного слова, ритуала, символики и т.п. Ментальность же ограничена сферой автоматических форм сознания и поведения» И в последние годы школа переживает кризис «роста и изменения»: «Журнал, столь устойчиво связанный с идеей обновления», -говорит ле Гофф, - «продукт своего времени, и в новой историографии не могут не найти своего выражения изменения обществ и знаний о них. Поэтому нужно быть внимательным к тому, что рождается.»
Хочется остановиться на двух примерах анналистического подхода. Наиболее крупный представитель среднего периода, Фернан Бродель, преемник Люсьена Февра, редактор журнала, выходившего после войны уже под названием «Анналы:экономики, общества, цивилизации.» О своей монографии «Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II» Бродель сказал как-то, что «главная, единственная проблема заключалась в том, чтобы показать, как разные времена движутся с разной скоростью.» Бродель выделил три времени в истории, три типа длительности, присущие разным уровням исторической реальности: время чрезвычайно большой протяжённости ( природные ритмы и экономические структуры ), время конъюнктур ( в социальной сфере), и краткое время ( событийная история ). И хотя этот средний период школы ( 1945 - 1968), благодаря Броделю оказался отмечен экономическим материализмом и преобладанием геоистории, такому эмпиризму «Анналов» всё-таки далеко до позитивистических спекуляций Шпенглера и других «за-вершителей» истории. Наблюдения за «временами разной протяжённости» в случае Ф. Броделя всегда оставалось корректным наблюдением за «параметром движения реальных человеческих коллективов». Хотя некоторый отход был налицо. Как считает А.Гуревич, Бродель был «по сути дела склонен к реификации понятий «структура», «конъюнктура», «время большой протяжённости».
Другим классическим образцом анналистики уже последних лет является «Логика толпы» А. Фаржа и Ж. Ревеля. («Правила восстания» на английском языке.) Задавшись целью выведать ничего «уму и сердцу» не говорящие факты о народном восстании в Париже 1751 года, эти историки с помощью увлекательного интеллектуального сюжета показывают вещи любопытные и легко узнаваемые социологом, психологом, и просто человеком, пожившим в двадцатом веке. Тут и слух - важнейший «персонаж» жизни города, его «проговоренная правда», и особая чувствительность к слухам о детях в Париже того времени, и рассуждение о самой природе слухов, и психология поведения людей в толпе, доведённой до предела «кипения», и элементы скандальной привлекательности для толпы зажигателей скандалов и их провоцирующих заявлений, и апокалиптические проповеди янсенистов. Постепенно делается понятней почему толпа так легко поддалась слуху о поимке полицией младенцев для излечения детской кровью здешнего короля от проказы. Реконструируемая картина восстания показывает, как сами участники творят значение своего восстания. Событие можно прочитать как текст, который импровизируют актёры, но каноны этой импровизации уже давно установлены. Поэтому и все восстания похожи друг на друга. Фарж и Ревель показывают, как, - конкретный слух косвенно играет зловещую, пронзительнейшую роль, в ходе зарождения и выплёскивания народного бунта на улицы.
Анналистическую работу как ответ на загадку, легко трансформировать в полудетективный рассказ-расследование. Что мы и наблюдаем на книжных развалах. Занимательная литература, высвечивающая ту или другую грань истории, имеет колоссальный читательский спрос. В этом спросе явно показана заинтересованность самой разной личности в историческом обобщении, исторической культуре. Исследовательская честность писателя-историка в том, чтобы, сочиняя увлекательно, оставаться на тонкой анналистической грани, не срывать моментальный успех, выворачиванием всего наизнанку, ведь перед ним чаще всего не оппонент, а малоискушённый читатель. Если историк рассказывает об историческом, в подробной вербализации, в полисемантичности литературной фразы не должен пропадать его индивидуальный исследовательский интерес. Он делает по существу для себя, новый нарративный набросок проблемы, и только.
Уподобимся сами Шпенглеру, - кажется, анналистический поиск в истории чем-то напоминает судьбу Жанны д’Арк. Патриархальная крестьянка по существу спасает Францию, вносит решающий перелом в события столетней войны, - но, при всех её личных достоинствах, благодаря не им, а определённым обстоятельствам, без которых её личность так бы не проявилась. Правительство Карла VII в разное время и по-разному использовало харизматичность крестьянки. Поэтому авторитетный богословский суд в 1829 г. не нашёл в её довольно смелых речах ереси, - сначала Жанне разрешили отправиться в осаждённый Орлеан, сопроводив её «опекунами». После триумфального освобождения Орлеана и быстрого роста популярности, власти меняют своё отношение к ней, но как? Представив её исполнительницей высшей Воли, и достаточно наградив, приблизив к себе, чтобы получить власть над ней и через неё на народ. После похода в Реймс, восхождения на престол Генриха VII, т.е. исполнения «предназначения» Жанны - власть решает убрать её со сцены . Её не отпускают домой в деревню, посылают в мелкие военные походы. И вот в этом месте возникает анналистический вопрос: «Верно ли, что ворота Пьемонта, которые не открылись перед спасавшейся Жанной, когда за ней гнались враги, не открылись не случайно?» С учётом ещё более сложной картины дальнейших событий истории Жанны д’Арк, этот вопрос получает глубину конкретного события - обстоятельства пленения. И ищет «опору», постановку исторического условия: так, положительно вопрос должен решаться, если правомерен выбранный механизм «власть - использование ею Жанны». Но насколько «властью» можно всё объяснять в этой истории ? А если лицо церкви не сливать с «властью» до неразличимости ? А если видеть слабого короля, сильную церковь местную и слабую дальнюю, папскую? И т.д.
(Продолжение следует)
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

