Наследие аполлинизма и дионисизма в романе Владимира Набокова "Дар"
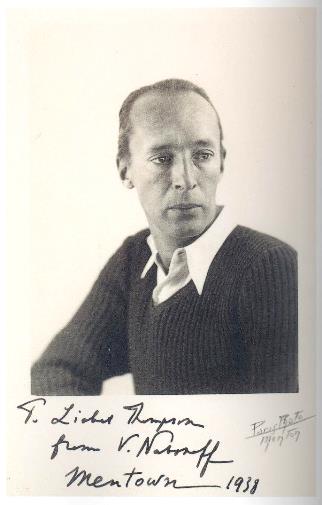
Познай себя — ничего сверх меры.
Высечено на камне над входом в храм Аполлона в Дельфах.
В романе Владимира Набокова «Дар» поэт Фёдор Годунов-Чердынцев выступает наследником и ревнителем петербургского аполлинизма и пушкинской традиции. Однако он не лишён колебаний в сторону модернизма. «Пушкинский камертон» помогает ему противостоять хаосу псевдодионисийской школы, борьба эта ярко проявилась в противостоянии с наследниками Чернышевского, не принимавшими пушкинского гения. Аполлон как солнечный бог гармонии, покровитель искусств имеет в себе также дионисийское начало, в этом противоречии залог драматического противостояния первородному хаосу ради обретения гармонии, рождённой «Из равновесья диких сил» (Е. Боратынский). Фёдор то отождествляет себя с духовным наследием Аполлона, то испытывает тягу к вакхическому веселью. Это диалектическое свойство его характера стремится уравновесить «полу-Мнемозина» поэта Зина Мерц.
Культура Серебряного века – предсмертная маска аполлонизма (выражение В.Н Топорова), сквозь которую проступает лучезарный Феб и Вакх, и русское ничто, унаследованное Набоковым-Сириным в пространстве эмиграции. Петербургский журнал «Аполлон» и московский «Мусагет» развивали идеи аполлинизма с модернистских позиций, это был краткий период его расцвета в пространстве вне хора.
К. Вагинов писал о крушении аполлоновского Петербурга в эссе «Монастырь Господа нашего Аполлона» (1922), обращаясь к духовной сущности лучезарного бога: «И возгорелась любовь моя к Господу нашему Аполлону и прекрасному телу человеческому. Жалко смотреть на Бога нетленного, в тлении поверженного. И восхотелось мне вернуть ему млеко и вино радости и жизни, снова Храм его воздвигнуть.
Братья художники, образуем монастырь Господа нашего Аполлона. Будем трудиться во славу его. Тяжел путь, но радостна вера в воскрешение его».
Арлекин — сниженный символ Аполлона и Диониса — появляется в романе «Дар», олицетворяя поэзию молодого автора: «Каждый его стих переливался арлекином». В финале романа арлекинада оживает в цветных стёклах бывшей кирхи возле дома Годуновых-Чердынцевых: «Вдруг вырос тополь, и за ним – высокая кирка, с фиолетово-красным окном в арлекиновых ромбах света: внутри шла ночная служба, и спешила подняться по ступенькам траурная старушка…» Это внутренний монастырь Фёдора, ле́дник его чувств: «Так впечатление былое / во льду гармонии живёт». Роман «Дар», чья героиня русская литература — попытка осмысления пушкинской традиции и призрачная надежда на её будущее возрождение. «Этого мира больше не существует», — писал Набоков в предисловии к роману о культурном пространстве тех, кто ещё сохранял наследие аполлинизма в довоенном мире.
Аполлинизм знаменует меру, волевое усилие, вкус, стиль, рефлексию, сновидение, формальное совершенство. Дионисизм олицетворяется бескрайность, пассивность, опьянение, карнавал, нечёткость формы, порыв, бунтарство. Золотое сечение Аполлона противостоит экстазу, это осознание границ. Аполлону представляется титаническим и варварским влияние Диониса, хотя он не может скрыть от себя родства с этими титанами и героями. Его бытие основано на скрытом фундаменте страдания и познания. Пластические искусства изначально принадлежат Аполлону, музыка — Дионису. Понятия, соответствующие духу Аполлона — только завеса, скрывающая первородное царство Диониса. Сновидения Феба питаются экстатическими парами пиров Вакха.
 «Д и о н и с и й с к о е начало предполагает ориентацию на природное, на интуицию и “страстное”, напорыв,пафос, экстаз. А п о л л о н о в с к о е же — на культуру, правило, чувство меры, гармонию, следовательно, на рациональное, на знание, сознание, самопознание, самоопределение, самоконтроль. Именно эти установки, насколько они были осуществлены, как раз и определяют значение аполлинизма в русской истории, культуре, более того, в самой жизни» (В.Н. Топоров, «Из истории петербургского аполлинизма: его золотые дни и крушение»).
«Д и о н и с и й с к о е начало предполагает ориентацию на природное, на интуицию и “страстное”, напорыв,пафос, экстаз. А п о л л о н о в с к о е же — на культуру, правило, чувство меры, гармонию, следовательно, на рациональное, на знание, сознание, самопознание, самоопределение, самоконтроль. Именно эти установки, насколько они были осуществлены, как раз и определяют значение аполлинизма в русской истории, культуре, более того, в самой жизни» (В.Н. Топоров, «Из истории петербургского аполлинизма: его золотые дни и крушение»).
Дионис. Эрмитаж. Санкт-Петербург. ---->
Выписки А. Блока из работы Ф. Ницше «Происхождение трагедии из духа музыки» говорят об интересе к этой теме, пропущенной через лирическое «я» поэта: «Можно так определить лирического поэта: сначала он, как художник в духе Диониса, совершенно сливается с первобытно-единым, его скорбью и противоречием, снимает с него копию посредством музыки, если только эта последняя по справедливости считается эхом мира и снимком с него. Затем эта музыка, как бы в символическом изображении, видимом во сне или под властью сна, относящегося к искусству Аполлона, является ему в видимых образах. Художник отрекается от своей субъективности еще при той стадии творчества, в которой действовало влияние Диониса. Лирический поэт, как гений в духе Аполлона, объясняет музыку посредством изображения воли, между тем как сам он, освобождаясь от алчной воли, наслаждается светлым, чистым, незатемнённым созерцанием» (Там же).
Поэт Кончеев откликается на чрезмерную пышность воспоминаний Фёдора в сборнике «Стихи», чуждую богу искусств: «Вы-то, я знаю, давно развратили свою поэзию словами и смыслом, — и вряд ли будете продолжать ею заниматься. Слишком богаты, слишком жадны. Муза прелестна бедностью». Фамилия Кончеев знаменует «коченеющую» традицию, над которой он «чахнет» как персонаж завершённого мифа.
К условной партии Аполлона в романе относятся Фёдор и его отец, Зина, Владимиров, Кончеев и безвестный читатель стихов. Аполлиничны Петербург и наследие Пушкина. Недаром Фёдор мечтает о продлении жизни великого поэта. Время романа мифологично как и время Петербурга, присутствующее в Берлине: «Он вслушивался в чистейший звук пушкинского камертона», — так он говорит о своем отце, своего рода судье Олимпа над русской поэзией, верховном Зевсе. Даже Блок не был для него эталоном. «Пушкин входил в его кровь. С голосом Пушкина сливался голос отца… Он слышал, как отец с классическим пафосом повторял то, что считал прекраснейшим из всех когда-либо в мире написанных стихов: “Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль”, и рыжим крылом да перламутром ниобея мелькала над скабиозами прибрежной лужайки, где в первых числах июня попадался изредка маленький “чёрный” аполлон».
Примечательно, что Фёдор — через посредничество имени бабочки – видит себя Орфеем, получившим заветную лиру. В этом свете финал романа знаменует невозможность вывести мертвую душу Эвридики к новой жизни, то есть продолжить роман, несмотря на финальную фразу «и не кончается строка»: «мой отец открыл истинную природу роговистого образования самок аполлонов, выяснив, что это супруг налагает на супругу лепной пояс верности собственной выделки, получающийся другим у каждого из видов этого рода, то лодочкой, то улиткой, то — как у редчайшего темно-пепельного orpheus Godunov — наподобие маленькой лиры». Фамилия Годунов содержит английское God — Бог, то есть и в имени (Божий дар), и в фамилии Фёдора зашифрована его связь с даром Всевышнего.
К свите Диониса – вернее, отпавших от неё в разрушительном порыве, принадлежат советские и берлинские писатели, Яша Чернышевский и его родители, рецензенты «Жизни Чернышевского». И прежде всего, Н.Г. Чернышевский и круг его современников, отрицавших наследие Пушкина. Прежние литераторы стал отступниками, например, критик Христофор Мортус, на самом деле бывший женщиной, «в молодости печатавшей в «Аполлоне» отличные стихи, а теперь…» В воображаемом диалоге Фёдора и Кончеева ведётся разговор о том, что можно отнести к традиции аполлинизма. Фёдором порицается шутка Лескова принизить бога гармонии: «всякие там нарочитые “аболоны” – нет, увольте, мне не смешно». Н. Чернышевский — любитель количества энциклопедических знаний в ущерб углублённости, не имеющих кристаллизации и доходящих до карикатурных форм.
«Подобно тому как “аполлоновскому” противостоит “дионисийское”, так и в самом “аполлоновском” немало внутренних соблазнов, которые в более глубоком смысле можно было бы понимать как некоторую из своих собственных корней произрастающую двойственность, хорошо известную определенному типу поэтов и их поэзии и позволяющую, кажется, понимать её как своего рода индукцию “дионисийского” начала в “аполлоновском” пространстве» (В.Н. Топоров). Эта идея проявлено в воспоминании Пушкина о лицейских года, где под видом «смиренной жены» угадывается Богородица, а «дельфийский идол» указывает на Мусагета:
В начале жизни школу помню я;
Смиренная, одетая убого,
Но видом величавая жена
Над школою надзор хранила строго.
…………………………………………………………….
И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.
……………………………………………………………..
Один (Дельфийский идол) лик младой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал —
Волшебный демон — лживый, но прекрасный…
Таинства Аполлона и Диониса волновали Пушкина с юных лет, в отношении к ним была неполнота, заставлявшая обращаться к искусству в попытке гармонизировать два равновеликих начала творчества.
С. Н. Булгаков в статье «Жребий Пушкина» говорил о борьбе двух начал в душе юного гения, которая продолжалась всю жизнь: «Рассуждая вообще, такой напор вещего, женственного, ночного начала должен неизбежно располагать к пассивности и слабости мужественного, солнечного, самосозидающего духа, и эта пассивность порой граничит с медиумизмом. В то же время благодаря ей же легко появляется уклон к холодному люциферизму, мистическому интеллектуализму. Пушкин, с обычной для него прозорливостью, уже наметил эту загадку подобного enthusiasmos в “Египетских ночах”, в образе декламатора-итальянца, да и сам иногда сетовал о пассивно вдохновляющемся поэте, что “меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он”. [...]
Не требует ли святыня красоты святости от своего служителя? Если она свята, свят ли служитель? Пушкин в “Поэте” дает на этот вопрос столь же правдивый, сколь и страшный ответ:
Стало быть, в поэте может быть совмещено величайшее ничтожество с пифийским наитием “божественного глагола”, “два плана” жизни без всякой связи между ними. Выразил ли здесь Пушкин то, что сам он считал нормальным соотношением между творцом и творчеством? Или же это есть стон души пленённой, которая сама ужасается своей пленённости и подвергает её беспощадному суду? [...] Не обращается ли здесь поэт со словом укора и раскаяния, ему столь свойственных, к самому себе, к своему духу? [...] В муках кризиса Пушкин как будто рождается заново. Он в это время переживает ужас духовной пустоты: “дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?” И далее о вехах сокровенного пути поэта к Богу — о “Пророке”, уразумение которого объясняет всего Пушкина».
Юный Набоков, наследовавший усадьбу в Рождествено от брата матери дяди Ру́ки (так звали Василия Ивановича Рукавишникова его иностранные друзья), выстроенную в псевдоантичном стиле, казалось, был лишён подобной рефлексии. Однако и его произведения содержат если не противостояние античных и христианских мотивов, то чётко выстроенную духовную иерархию, где условно античное и евангельское не противопоставлены напрямую, но образуют сложную иерархию. Фёдор пишет анти-апокриф «Жизнь Чернышевского» в поисках истоков угасания аполлинизма. Он перелистывает журнальчики из Советской России: «Вдруг ему стало обидно – отчего это в России все сделалось таким плохоньким, корявым, серым, как она могла так оболваниться и притупиться?»
Зина Мерц склоняет поэта стать прозаиком и не испытывать презрения к миру материи, исследовать дионисийский хаос, спустившись в «нижний» мир: «Я напишу, – сказал в шутку Федор Константинович, — биографию Чернышевского». — «Но чтобы это было совсем, совсем настоящее. Мне нечего тебе говорить, как я люблю твои стихи, но они всегда не совсем по твоему росту, все слова на номер меньше, чем твои настоящие слова». От родины осталось немного: «Всё, что есть у меня – мой язык», — писал В. Набоков.
Мандельштам говорил о русском языке как о духовной плоти наследия Эллады: «Русский язык — язык эллинистический. В силу целого ряда исторических условий, живые силы эллинской культуры, уступив Запад латинским влияниям и ненадолго загащиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самобытную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью» («О природе слова»).
Фёдор посвящает читателя в поэтическую лабораторию: «Благодарю тебя, отчизна, за чистый… Это, пропев совсем близко, мелькнула лирическая возможность. Благодарю тебя, отчизна, за чистый и какой-то дар. Ты, как безумие… Звук “признан” мне собственно теперь и не нужен: от рифмы вспыхнула жизнь, но рифма сама отпала. Благодарю тебя, Россия, за чистый и… второе прилагательное я не успел разглядеть при вспышке – а жаль. Счастливый? Бессонный? Крылатый? За чистый и крылатый дар. Икры. Латы. Откуда этот римлянин? Нет, нет, все улетело, я не успел удержать.
Ключевые слова здесь – «музыка» и «безумие» в эмиграции дополняют «Русский бред» А. Блока, когда поэт наяву разбил статую Аполлона на множество осколков. Дионис по преданию был разорван Титанами. Пифон в одном из мифов поражает Аполлона, чья могила имела конкретное место. Осколки статуи Аполлона – семена будущего возрождения, Набоков и его персонажи следуют «путём зерна» (В. Ходасевич), которое даст новые всходы.
Музы́ка знаменует изначальную дионисийскую стихию, требующую, по Ницше, волевого преображения в гармонические звуки, об угасании её Блок писал в «Крушении гуманизма»: «Всякое движение рождается из духа музыки, оно действует проникнутое им, но по истечении известного периода времени это движение вырождается, оно лишается той музыкальной влаги, из которой родилось, и тем самым обрекается на гибель [...] Так случилось с античным миром, так произошло и с нами. Хранителем духа музыки оказывается та же стихия, в которую возвращается музыка, тот же народ, те же варварские массы. [...] Она — разрушительна для тех завоеваний цивилизации, которые казались незыблемыми». Блок свидетельствовал о противостоянии музыки и цивилизации «железного века», о котором пророчил Е. Боратынский в стихотворении «Последний поэт», говоря об Аполлоне, потонувшем в житейском море:
Вяч. Иванов вослед за Платоном отмечал оттенки безумия и пророческого вдохновения от дара богов: «В этом психологическом анализе Платон… характеризует дионисийское служение как душевное состояние энтусиазма очистительного, т. е. разрешающегося в каѳарсис (хотя прямо о нём и не упоминает). В других местах он определяет одержание божеством (“энтусиазм”), как состояние страстнóе, “пассию”», или “паѳос”. “Не безумие ли любовь?” — читаем в “Фэдре” — Конечно, да! Безумие же бывает двух родов: одно проистекает от недугов человеческих, другое — от божественного изменения привычных и нормальных состояний души. И в этом последнем — в божественном одержании — мы различаем четыре вида: пророчественное вдохновение — от Аполлона; посвящения мистические (телестика) — от Диониса; поэтический восторг — от Муз; наконец, превосходнейшее из всех четырех священных безумий — безумие любви — от Афродиты и Эроса» («Дионисизм и прадионисийство»).
Отрицательный образ Аполлиона («разрушителя») знаменует Последние времена, когда символическая саранча захватит землю: «Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион» (Отк. 9:11). Подменный Аполлион напрямую ассоциируется в народе с Антихристом. Черты вырождения имеют берлинские литераторы, озабоченные борьбой за скудные материальные блага. Их мировоззрение чуждо Фёдору и Кончееву. В руководстве Берлинского союза литераторов полагали, что «Кончеев – никому не нужный кустарь-одиночка». Однако его строки поразили Фёдора гармонией лада: «Кончеев, в отличие от победоносной чеканности прочих тихо и вяло пробормотавший свои стихи, но в них сама по себе жила такая музыка, в тёмном как будто стихе такая бездна смысла раскрывалась у ног, так верилось в звуки»
Стихотворения Фёдора «Люби лишь то, что редкостно и мнимо…» рождается в ткани романа из пульсирующего тумана слов, поэт-эмигрант уподоблен пушкинскому импровизатору «Египетских ночей». Заключительные строки напоминают о пушкинской тайной свободе: «О, поклянись, что веришь в небылицу, / что будешь только вымыслу верна, / что не запрешь души своей в темницу, / не скажешь, руку протянув: стена». В строках стихотворения «Так вот он, прежний чародей…» Набоков писал о былом Петербурге:
Эти строки перекликаются с пасхальными звонами природы из стихотворения Блока «Пушкинскому дому»:
Это — звоны ледохода
На торжественной реке,
Перекличка парохода
С пароходом вдалеке,
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!
(указано проф. Б. В. Авериным)
«Немая борьба» Фёдора с хаосом погружена в мифологическое время, объединяющее прошедшее с настоящим и будущим, где физическое исчезновение мнимо: «Наше превратное чувство времени, как некоего роста, есть следствие нашей конечности, которая, всегда находясь на уровне настоящего, подразумевает его постоянное повышение между водяной бездной прошедшего и воздушной бездной будущего». В «Других берегах» Набоков писал: «Время – круглая крепость».
Неприятие Фёдором подражательных стихов Яши Чернышевского, а также его родителей, культивирующих миф о наследии сыном таланта великого предка, находят у него желчный ответ в жизнеописании Н. Чернышевского, столпа вульгарного материализма. Доносится ответ на голос «черни» из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа»:
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!.. так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь.
Вставная новелла о жизни Чернышевского, она же четвёртая глава «Дара», описывает благие помыслы шестидесятников позапрошлого столетия, искренне полагавших, что главное в искусстве польза, а не то неуловимое, как писал Набоков, что вызывает ртутную дрожь в позвоночнике: «Борясь с чистым искусством, шестидесятники, и за ними хорошие русские люди вплоть до девяностых годов, боролись, по неведению своему, с собственным ложным понятием о нем… Чернышевский, будучи лишен малейшего понятия об истинной сущности искусства, видел его венец в искусстве условном, прилизанном (т.е. в антиискусстве), с которым и воевал, — поражая пустоту.
Мы теперь подходим к его самому уязвимому месту; ибо так уже повелось, что мерой для степени чутья, ума и даровитости русского критика служит его отношение к Пушкину. Так будет, покуда литературная критика не отложит вовсе свои социологические, религиозные, философские и прочие пособия, лишь помогающие бездарности уважать самое себя. Тогда, пожалуйста, вы свободны: можете раскритиковать Пушкина за любые измены его взыскательной музе и сохранить при этом и талант свой и честь. Говоря, что “Пушкин был только слабым подражателем Байрона”, Чернышевский чудовищно точно воспроизводил фразу графа Воронцова: “Слабый подражатель лорда Байрона”».
Чернышевский проговаривается, впуская в роман «Что делать?» видения сатира из свиты Диониса: «чего стоят, например, “легкие” сцены в романе: “Верочка была должна выпить полстакана за свою свадьбу, полстакана за свою мастерскую, полстакана за саму Жюли… Принялись бороться, упали обе на диван… и уже не захотели встать, а только продолжали кричать, хохотать, и обе заснули”». Фёдор решает не идти на карнавальную вечеринку слуг Диониса, куда его приглашает Зина, на деле погружаясь в вакхическую стихию Чернышевского и его окружения, дописывая предание о демонизме в судьбеЧернышевского.
Забавно, что в романе Фёдор предвидит близорукую критику эмигрантов, четвёртая глава «Дара» по цензурным соображениям была отклонена редакцией «Современных записок»: «Автор пишет на языке, имеющем мало общего с русским. Он любит выдумывать слова. Он любит длинные запутанные фразы… или вкладывает в уста действующих лиц торжественные, но не совсем грамотные, сентенции, вроде “Поэт сам избирает предметы для своих песен, толпа не имеет права управлять его вдохновением”». Эти пародийные строки говория о том, что слова поэта Чарского из «Египетских ночей» незнакома критикам Фёдора.
 Лучезарный Аполлон буквально разоблачает в Фёдора в Груневальдском лесу (где застрелился Яша Чернышевский) за дерзость, и тот оказывается в костюме Адама. Это намекает на судьбу сатира флейтиста Марсия, рискнувшего состязаться с лучезарным богом, за что Феб снял с него кожу. Пережив земное унижение и необходимое для посвященного «развоплощение» ради обретения природного начала, Фёдор спускается в царство сновидений, где встречает пропавшего без вести отца. Аполлон выступает проводником в потустороннее царство грёз, где время существует как отражение.
Лучезарный Аполлон буквально разоблачает в Фёдора в Груневальдском лесу (где застрелился Яша Чернышевский) за дерзость, и тот оказывается в костюме Адама. Это намекает на судьбу сатира флейтиста Марсия, рискнувшего состязаться с лучезарным богом, за что Феб снял с него кожу. Пережив земное унижение и необходимое для посвященного «развоплощение» ради обретения природного начала, Фёдор спускается в царство сновидений, где встречает пропавшего без вести отца. Аполлон выступает проводником в потустороннее царство грёз, где время существует как отражение.
<--- Аполлон Мусагет в Павловском парке. Санкт-Петербург.
Утратив ключи от квартиры — земного рая, Фёдор шутливо говорит Зине о своём лирическом герое, который в конце жизни созвал «гостей на пир, акробатов, актеров, поэтов, ораву танцовщиц, трёх волшебников, толленбургских студентов-гуляк, путешественника с Тапробаны, осушил чашу вина и умер с беспечной улыбкой, среди сладких стихов, масок и музыки». Однако Зина напоминает ему о высоком долге перед Аполлоном, выступая в роли Пифии и призывая к самоограничению: «Ты станешь писателем, по которому будет изнывать Россия». Герой романа мечтает воплотить редкий многосоставной дар: «Вот бы и преподавал то таинственнейшее и изысканнейшее, что он, один из десяти тысяч, ста тысяч, быть может даже миллиона людей, мог преподавать: например – многопланность мышления… Или ещё: постоянное чувство, что наши здешние дни только карманные деньги, гроши, звякающие в темноте, а что где-то есть капитал, с коего надо уметь при жизни получать проценты в виде снов, слёз счастья, далеких гор. Всему этому и многому ещё другому (начиная с очень редкого и мучительного, так называемого чувства звёздного неба».
Как писал Вячеслав Иванов в «Эллинской религии страдающего бога», «Не мёртвое сознание внешней зависимости и подневольности породило живое религиозное чувство, но предчувствие единства индивидуума со всем, что вне его, и чрез то – призрачности всякого индивидуума... Чувство своего я вне его индивидуальных граней толкает личность к отрицанию себя самой и к переходу в не-я, что составляет существо дионисийского энтузиазма. Это чувство столь же начало всякой мистики, сколь удивление — начало всякой философии. Сознать себя в растерзанных частях Единого значит соединиться с Дионисом в существе и с Душою Мира (Исидою, Деметрою) в искании; с тем — в страдании разделения и распятия, с этою – в любви и тоске сердца, седмижды пронзённого». Иннокентий Анненский, знаток дионисийских мистерий, говорил о переселении в человека античных богов, определяющих судьбу: «Но в самом Я от глаз Не Я / Ты никуда уйти не можешь».
Фридрих Ницше писал о борьбе противоположностей и синтезе космоса и хаоса в человеке: «Титаническим и варварским представлялось аполлоническому греку и действие дионисического начала, хотя он не скрывал от себя при этом и своего внутреннего родства с теми поверженными титанами и героями… И вот же Аполлон не мог жить без Диониса! Титаническое и варварское начала оказались в конце концов такой же необходимостью, как и аполлоническое!.. Индивид со всеми его границами и мерами тонул здесь в самозабвении дионисических состояний и забывал аполлонические законоположения». Фёдор также условно растерзан в конце романа. Этот экзистенциальный кризис связан с оставленностью Аполлоном и невозможностью воплотить идеалы античной драмы: «Между прочим, слова к Еврипиду: „Так как ты покинул Диониса, то и тебя также покинул Аполлон"» (А. Блок, Записные книжки). Это стремление к истине владеет персонажами, совершающими с автором духовное паломничество на родину грёз:
Хозяин звезд, и ветра зычного,
и вьющихся порог,
бог-виноградарь, бог коричневый,
смеющийся мой бог,
позволь зарю в стакан мой выдавить,
чтобы небесный хмель
понес, умчал меня за тридевять
синеющих земель.
«Паломник»
Таково странничество Набокова-Сирина и его двойников в поисках утраченного мотылька: «Далеко от лугов, где ребёнком я плакал, Упустив аполлона…» В Павловском парке немало статуй Аполлона Мусагета в разном состоянии. Посетителям скорее близок Дионис, но парки ткут саван обоим. Это внезапно воскрешаемая тяжба между Дионисом и Аполлоном, мифологическими героями Петрополя. Роман В. Набокова «Дар» знаменует тщетную попытку русской словесности уйти от искажающих пропорций модернизма. Набоков то перенимает приёмы революционного искусства, то пародирует их, словно модерн теперь принадлежит Дионису, а прежнее фрагментарно возрождаемое искусство – богу гармонии Аполлону.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

