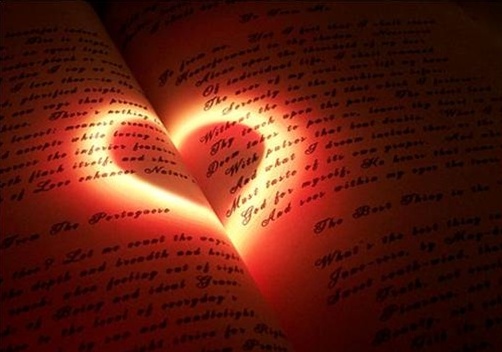Варламу Шаламову
1.
Великомученик Шаламов
познал такой Земли простор,
что затворились двери хамов
и онемели склоны гор.
Стонали гейзеры и плахи,
и вымерз солевой раствор
изношенной до дыр рубахе,
замёрзшей, где и приговор
из горевого изначала
и бесконечного конца
бесчеловечного причала
без сердца, мозга и лица.
Кружилось всё перед глазами
внутри-снаружи всех таблиц,
и сны уничтожались сами,
и падали весталки ниц.
Святой и крепкий содрогался,
дух погружался в письмена,
таёжный смысл не сдавался
и перевыполнял сполна
и мыслимую невозможность,
и весь немыслимый кошмар,
запаянный и в непреложность
и в свой бессовестный пожар.
2.
В себя уйдя не посреди двора,
а посреди обугленной пустыни,
он полагал, что было всё вчера,
а всё случилось завтра, и отныне
и навсегда, как компас ни крути
среди застрявших в соснах астролябий
на вымороженном большом пути
безликих и окаменевших хлябей,
где не живут пчела или оса,
не говоря уже о белых чайках
или следах такого колеса,
что держится не на железных гайках,
а на какой-то костяной оси,
от нижней точки и до верховодной.
– Вот ни о чём другом и не проси.
– И не прошу по простоте природной,
читаю только и помногу раз
исчезнувшего в воздухе Варлама
и проникаю в его вечный сказ
и прочно, и доверчиво, и прямо.
3.
Он и не знал, что в нужный час
сам станет пурпурным поэтом,
среди во всём инаких нас
на свете том, на свете этом.
Что сделал, то и записал
так, как в том веке записалось,
и просто в воздух направлял
то, что в пределах собиралось
его и мира, и миров
внутри тепла и всякой стужи,
которая алкала слов,
всё шире становясь и уже.
Потом явилась пустота
и вдоль, и поперёк закона,
и вот теперь мы у листа,
в котором он навеки дома.
Осипу Мандельштаму
1.
Сластёна. Нищий среди нищих.
Предтеча. Часослов. Пророк.
Бродяга. Инок. Третий лишний,
Познавший неизбежный рок.
Недоучившийся ребёнок.
Переучившийся мудрец.
Чей взгляд, проникновенно тонок,
Объял всю боль чужих сердец.
Гоним. Топим. Судим. Растоптан.
Терзаем. Сослан и убит.
Вновь воскрешён. Скупаем оптом.
И вновь, как прежде, «щегловит».
Твоё сродни богатство Сути
Непостигаемых Причин.
В нечеловеческой той Смуте
Ты был отчаянно один…
Смолкает шум привычной песни,
Когда ступаешь ты в тиши
Так миру хорошо известной
Навылет раненой души.
2.
О, если бы мог деться в январе
в открытой сумасбродности зацепок
хоть в стужу, хоть в горячее пюре,
то не был бы отчаянно так крепок
в камнях ночных и гулких мостовых,
указывая молча на педали
и клавиши оргáнов молодых,
что все ключи тебе давно отдали.
О, если б короб деревянный тот
ответствовал, внутри себя немея,
не растопила б православный лёд
Валькирия, она же Лорелея.
Небросок, неказист и неколюч,
стоит твой столп в отчизне летописцев.
Храним в музеях твой домашний ключ,
делами неказистости неистов.
3.
Из-за ступенчатых углов
ты посылал нам позывные,
не помышляя про улов
и восхищения любые.
Густых и самых лучших гамм
слышны ходы. Шутя-рыдая,
ты к утвердительным рядам
так воспарил, себя играя
в такой серьёз, что даже те,
кто в подоплёке сомневался,
со стен убрали в темноте
тот лозунг, что на них остался.
Имея шансов ровно ноль,
ты так проник куда нам надо,
что преклонить сейчас позволь
колени в память листопада.
Марине Цветаевой
Здравствуй, добрая, хорошая!
Время мерное, постой!
Под елабугской порошею
слог живёт твой золотой.
Приложу к земле читаемой
и колени, и уста –
и к желанной, и к желаемой,
чья любовь была густа.
На краю соединения,
в середине всех сердец
и внутри обледенения
твой звучит нам бубенец.
Ты острожница судьбы своей,
светлый ангел на краю,
свет и бывших и небывших дней,
пересмешник во хмелю.
Гимнов мало и бессмертия,
чтобы чудо воспевать.
Круговертям круговертия
от тебя бы не отстать...
Анне Ахматовой
Твои выдумки – суть твоей доли,
им легко и приятно внимать
при свече, при лампаде – тем боле,
чтобы тихо тебя ощущать
в лёгком слоге спокойных открытий,
состоявшихся в веке другом
при наборах воздушных наитий,
что в краю не живут больше том,
где за клёном знакомая рама
одного из немногих окна
и прозрачность дневного тумана
и бледна, и нежна, и вольна.
Опьянением или неволей
ничего здесь нельзя объяснить, –
только долей твоей, только долей
продолжать золочёную нить.
Тайна стелется вдоль уговора
и во времени именно том,
где летали и мирная ссора,
и невидимый подданным гром,
громыхавший везде без умолку
над житьём и, конечно, бытьём
до и после событий вне толка
на безбрежном причале твоём
в навсегда арендованном зале
при больших напряженьях вокруг,
о которых живые все знали,
изучая константы разлук.
Перезвонами полнится вечность
и позициями контрданс,
умиляя собой и сердечность,
и последний, быть может, романс
в твою честь и в твою только милость
этих праведно редкостных уст,
провожая всё то, что случилось
в мире том, что с тобою не пуст.
Иосифу Бродскому
1.
Норинская – пустее всех пустот
ещё вчера! Сегодня – трёх историй
великий сказ, излучин лукоморий
звезда в поэзии, в которой лаз
Иосифом отведанных любовей
на фоне оцезуренных литот
не очень виден, превратившись в паз.
Так можно делать пулю из сухой
листвы и двух хлопков простого звука,
из трёх капустных листьев, перьев лука,
когда набор пружин
у граммофона есть и есть разлука,
и перечень всей жизни молодой,
плюс правила сложенья величин.
Секретов нет – лишь гения рука
нужна на этом фоне перегона
в пределах рукотворного трезвона
и шума всех трещоток на стерне
вне проповедей с личного амвона.
И сила проявляется, легка,
как истина в изысканном вине.
2.
В час, когда я проливал баланду
на пол ты знал уже и Миранду,
и Птолемея, и Персефону,
дань отдавая и полутону,
и экспедиции дальногорной,
и критикессе отменно вздорной,
цвет изменял у верховных радуг,
блики сдвигал, и огонь был ярок,
клал на рыжьё и на пистолеты,
все до одной из шести монеты
тратил, искал и искал, и стлался,
и тосковал, и в песок вжимался,
делал судьбу и свою картину,
даже не пряча из рифмы мину
от сумасбродного постулата,
коим земля была торовата.
Черти гноили, вгоняли в складки
Норинской зги, где её колядки
дух не размыли, но укрепили
мышцу словесную в новой силе.
Всё остальное вело к короне
с пересечением на кордоне
Млечной Дороги большой границы
сразу по выходе из темницы.
Зéмли бывали и плодородней,
но по отдаче не превосходней
той, к смыслу коей «щекой прижаться»
не удалось. Удалось отжаться
от штукатурки в закрытом зале,
чтобы туда, куда и не звали
вылететь пробкой, листом, бумагой,
не истекая ненужной влагой.
Новые тропы в виду у мантий
были в начале. Потом из хартий
сшили одежды под звон медалей –
и поздравления раздавали.
Был и фарфор, и его осколки,
и черепки на дубовой полке,
суммы естественных модераций
и ожидаемость публикаций.
Стрáны пропустим – чужая веха! –
шторы опустим; и не до смеха
было порою от всех присутствий
велеречений внутри напутствий.
Колокол бил. Мы не спросим сколько
раз и зачем, почему и столько
времени вышло из всех затворов
и разрешились не все из споров.
Да и зачем было разрешаться всем?..
Происшедшему дóлжно статься
было – и сталось, и провернулось,
и в заключение улыбнулось
всем, кто воспринял чужие лета
и чья душа без конца согрета
тем, что не купишь. Последней пуле –
место всегда есть «в раю, в аду ли».
Александру Гольдштейну
В письме и в мышлении опередил
посписочно многих на новом подъёме,
который всем сердцем души учредил
в своём исключительном буквенном доме.
Приблизиться к градусу может любой,
хотя бы настолько, насколько возможно,
но он был ему исключительно свой
подкожно, крепёжно и благонадёжно,
с большим перебором всех лёгких умов,
опасных своим разуменьем предмета,
и неповторимой на склонах веков
той песни, чьё имя, скорее, комета,
чем вся колыбельная проза иных,
безъядерная и без трат организма,
с большим освещением вех мировых
лампадами собственного прозаизма.
Причастен всем будням до кожи границ,
он всё пропускал, и со всем соглашался
в присутствии и без присутствия лиц,
с которыми литературно общался.
Подробно роясь в микросхемах вещей,
разительно точно охватывал суммы
глубин перелётных возможностей дней,
какими бы ни были шансы угрюмы.
Любить и оплакать, и снова любить,
так превознося, чтобы внутренность грела
всё, что так хотело на свете пожить,
но выполнить это не очень успело.
Владимиру Нарбуту
«Кристально чист и голосист»,
и голос дивно узнаваем,
как ясный соловьиный свист
в местах, что называем раем.
И снова не сравним ни с кем, –
включая даже поднебесных, –
всем строем личностных фонем,
простых и гибких, и чудесных.
Это не лесть, но истин слог
рифмослагателя благого,
впитавшего весь твой урок
простого только с виду слова,
на деле же – дороже злат
и самых дорогих бриллиантов,
включая досточтимый ряд
известных памяти талантов.
Куда ни бросишь взгляд, везде
два чуда порождает третье,
и не найти его нигде,
но только в этом ясном свете.
Анатолию Кобенкову
«А ни за чем», – так написал и вышел
интеллигентный, светлый человек,
прошёл по насту, а потом по крыше,
преодолев и тот, и этот век,
и те, что иногда бывали круче
в далёкие не очень времена,
когда и не слагалось «где же лучше»,
и «кто здесь он», и «кто здесь не она».
«Зачем уехал?», – «А зачем приехал...»,
«Зачем писал?», – «Зачем не написал...»,
а чтоб преодолеть и эту веху,
и ту, где всё нашёл и всё сказал.
Пробежки и «раздоры всех порядков»
мелькали на экране и за ним,
и было всё размеренно не гладко
с тобой и с нами, и со всем другим.
Мелькали птицы и сменялись лица
на подиумах врéменных времён,
и были прочными его границы
которые обхаживал лишь он.
Без встречи обозначилась разлука,
как всё, что перевёрнуто в ночи
из строк твоих и твоего «предзвука».
Ты не молчишь сегодня. Не молчи.
Алексею Цветкову
Цветков – веранда и планшет,
и бабочка, и врач в аптеке,
и расставанье, и фуршет,
и все тома в библиотеке,
и Ежи Лец, и Диоген,
Ларошфуко, Моэм и Сирин,
Аполлинер, Рембо, Верлен, –
и всяк ему неравносилен.
Равнин неутомимый гость,
и круч, и парков, и предместий
между пространствами всех туч
и приснопамятных известий
из всех мирских библиотек
и кладезей необъяснимых,
наполнивших бегущий век
следами строк всегда любимых
и взрослыми, и детворой,
и всякой живностью с мозгами,
и порослью, как молодой,
так и в летах под небесами,
которые и выбрал он
для бесконечных поселений
всех тех, чьё имя легион
внутри его стихотворений.
Николаю Клюеву
«Беседная изба...»
Н.Клюев
Беседное крыльцо – великая услада
для тех, при ком оно на дальних берегах,
ему и жёлчь всегда, и лимфа много рада,
тем более, певцы при звуках и словах.
Затихнут и метель, и туч многообразность,
затеплится костёр, и радуга взойдёт,
и выльет на экран душа свою нарядность,
и всякая зима сама к весне придёт.
О, множество бесед и многомерность мыслей!
Иные берега мечтают о крыльце.
Созвездий всех лучи над ним давно зависли,
и блики хороши на искреннем лице.
Сергею Петрову
«Далеко и рядом», вместе с нами,
даже если в каторжном плену,
где своеобразные цунами
провожали взглядами Луну.
Полиглот в дубильной одиночке,
и огромный, праведный орёл
верный с первой до последней строчки
авторам, которых перевёл.
Коробейник, жизнелюб, офеня,
весь вразнос, вся цельность бытия,
с томом философского Монтеня
добрые, старинные друзья.
Старопровансальский проявитель,
шведский и исландский рифмодел,
и петровско-русского воитель
языка, которым так владел
что дивились те, кто понимают
и сравнить не пробуют ни с чем
ибо мáстерскую силу знают,
как непревзойдённую никем.
Изначальный знак в инаком знаке,
высота взращённого ума
в скромности такой, что даже злаки
поклоняются ему сполна.
Самый чуткий в мире «усомнитель»
из известных памятным годам,
примиритель и теплоноситель,
дорогой словесным очагам.
Всё нимфоманическое слово
славится изысканным теплом
из непостижимого былого
с четверным при всякой мере дном.
И живёт словесная громада
вся твоя на радость всем векам,
и другой решительно не надо
нашим распластавшимся мечтам.
Бруно Шульцу
Я «Коричные лавки»
закажу в ресторане «Весна»
и большие добавки
«Под клепсидрой»,
когда так красна
дорогая мантилья
из Дрогобыча. Бруно закон.
Огневая Севилья
и Галиции аккордеон.
Перевёл стрелки века
на себя, не мечтая о том.
Только слово от человека
осталось. Малиновый звон!
Из отеческой пыли
мало кто нам сказаний сложил.
И поэта убили...
И поэт не живёт.
Но он жил!
Рукотворные лета.
Поселился в них Бруно порыв.
Иудей из Милета.
Австро-Венгрии добрый извив.
И уже, соревнуясь,
три страны предъявили счета,
и, законно красуясь,
занимают поближе места
к дому, в коем Аделя
и её темноглазый отец –
перед ярмаркой хмеля.
И цветёт возле дома чабрец.
Голубиная стая
и прощальный сезон берегов.
Бруно вышел из мая
и почил во гряде облаков
эманацией света
с пулевою в затылке дырой.
Перелётные лета –
все тебе, Базилевс дорогой!
Эмилю Чорану
Письмо Чорана – грифельная честь
живущим, слышащим,
но более – читавшим.
Его харизматическая весть
преадресована от многого уставшим.
Игла во мгле и спицы в колесе
не так влетают в эталоны блеска,
как запятые в медленной красе
своих же головных болей комэска.
Линкор пустыни, гений тишины,
хирург опережающего мига,
чьи развороты мысленно вольны.
Под кителем моим твоя верига.
Марселю Прусту
Только этот живительный слог
из домашнего воздуха «Свана»
для меня мой большой оселок
и моя дорогая нирвана.
Только этот подсвеченный дом
словодела со взглядом ребёнка
для меня и живой окоём,
и желанная в мире сторонка.
Только этого запаха тлен
и настой паутин из железа
для меня и присутствие стен,
и звенящий ручей, и аскеза.
Только этот письмовник всех проз,
и четвёртых, и даже десятых –
сад из лучших в подлунии роз,
коронующих оды в сонатах.
Шарлю Бодлеру
Шедевр, восхищеньем полный!
За словом – дивная строка!
Легкопосадная рука –
(площадный дух или альковный).
Сын Солнца. Всех теней преданье
и их подсвеченных цветов
из неоформившихся слов.
Кажденье. Лития. Закланье.
Ровесникам любви и века –
учитель света и казны
свирельной. Памятью верны
прообразу «се человека»
внутри всех эталонов мер.
Поэт кастальский – Шарль Бодлер.
Полю Валери
Я плакал ночь и радовался денно,
и мог две сотни птиц пересчитать
в одну минуту, и попеременно
мог два трамвая разных обогнать,
«Ты, как младенец», – вспомнив, –
«спишь, Равенна».
В ту пору мимо разных паровозов
мелькал лишь нужный мне локомотив.
Я машинистом был своих извозов.
Меня спасал придуманный мотив
на фоне приближавшихся морозов.
Но ничего давно уже не снится,
и копия с печатями верна
всем чувствам, как последняя страница
там, где жива ещё моя страна
и в тайнике лежит твоя ресница.
САПФО
Вдоль Млечного Пути и вдоль тоски
к тебе и мысли, и глаза, и уши.
Я слоги не могу твои не слушать,
не слышать, и меня ты зареки
и утоли, как можешь, мой порог,
который этим словом занемог.
Стою лицом к тебе. Твой «Ремингтон»
и тянет вниз, и пробуждает к жизни.
Твой чистый слог и необъятный фон
несут мне правду о твоей харизме.
Отчизне лет я чуждо одинок
с тех пор, когда и Запад, и Восток
увидел. Их владенья обхожу
и вижу все свои остатки тыла.
Сквозь наслоенья жизни не остыла,
не остывает радость. Я гляжу,
как словом ты умеешь управлять
и позволяешь высшему внимать.
Я твой изгой, подпольный чародей,
шутник неотработанного пара,
извозчик контрабандного товара
из Кандагара, оселок ничей.
Мне угощенье – белая дыра,
огромная, немедленная яма
в твоих полях. Не может мне нирвана
помочь. Не смог никто, любя
и не любя. Все сети и лучи –
в истории с тобою. Не молчи!
Иду по повторяющимся кочкам
с размеренностью чисел даровых,
изустно перемалываю стих
и старыe пути свои песочком
засеиваю. Только бы принять
твоих посланий истовую прядь.
Я пустота последнего пальто
и невозможность карадаг-дурмана.
Ты есть моя последняя Осанна.
Для всех напевов я твоих – никто.
Позволены мне радость и тоска.
Настроены струна мне и доска.
Среди семи красот, семи чудес,
услышь меня, послание небес!
На полном или медленном скаку
метни в меня сейчас твою строку!