Марианна Рейбо: разложить себя в персонажи своих книг…

Марианна Рейбо
Для кандидата философских наук, журналиста, публициста и прозаика Марианны Рейбо (настоящее имя Марианна Марговская) её творческий вечер в рамках арт-проекта «Бегемот внутри» в библиотеке Ивана Крылова оказался «неожиданным и спонтанным» («слился» планируемый выступающий), поэтому в начале своего выступления она предупредила (или пообещала), что будет «немножко импровизировать и больше рассказывать», чем читать свои тексты, чтобы ими «не перегружать» (хотя потом всё равно читала в достаточном объёме).
Главной темой своего прозаического творчества Рейбо считает тему лишнего человека. По словам писательницы, она не раз сталкивалась с тем, что «даже те, кто относится к критике как к своему поприщу, иногда не знает, что это за тема и путает её с темой маленького, хотя это совершенно разные вещи: лишний — тот, кто не находит своего места в обществе и противостоит ему». Выступающая напомнила, что в мировой литературе «лишний человек начинается с Байрона, у нас же — с персонажей Пушкина и Лермонтова», а продолжается тургеневским Базаровым («более того, у Тургенева вообще есть повесть, которая называется “Дневник лишнего человека”»). Если у классиков лишний — «это обычный индивидуалист, какая-то отдельная выдающаяся личность», то Рейбо, по её словам, изображает его «как представителя целого поколения или определенной стигматизированной социальной группы».
Публиковаться Рейбо начала 10 лет назад: в 2015-м году появился её первый роман «Письмо с этого света», а в 2018-м отдельной книгой вышла фантастическая повесть «Нано». В обоих произведениях, слегка повторилась писательница (но с новым акцентом), тема лишнего человека показана через молодое поколение: оно «становится целиком лишним в обществе без будущего». «Наивысшей точкой» в раскрытии этой темы «в гротескном исполнении» Рейбо считает свой последний роман «Транзишн», который был опубликован в США в русскоязычном журнале «Времена». В этом произведении, по словам выступающей, «есть красивые лирические куски, хорошие для чтения вслух», поэтому начала она именно с них: «Влажные от пота простыни приобрели неприятный чесночный запах. Спёртый воздух непроветренной спальни наполнил темень зимнего дня. За весь декабрь в Москве набралось всего шесть минут солнца…»

Николай Милешкин - ведущий встречи в клубе "Бегемот внутри".
***
После прочтения трёх отрывков из «Транзишн» Рейбо возвратилась к своему первому роману «Письмо с этого света», пояснив, что хоть он и «написан в духе мистического реализма с аллегорической подноготной, в которой много символистики и библейских аллюзий, но там абсолютно реалистический городской сюжет: грехи большого города, ошибки молодых людей». Роман — о реинкарнации Люцифера в женском обличье, хотя «по сути это обычный человек, обычная девушка», и Люцифер «носит характер карнавальной фигуры». Для автора романа его «образ — это в первую очередь образ бунтаря»:
— Такая многоуровневая вещь, — словно подытоживает Рейбо перед тем, как начать читать фрагмент (впрочем, потом ещё не раз к этому произведению вернётся).
Сделав ремарку, что «хочет познакомить слушателей с главным героем», писательница приступила к чтению: «Здравствуйте, господа! Впрочем, не знаю, зачем я это написал. Ведь слово “здравствуйте” подразумевает, что я желаю вам здравствовать, а мне, откровенно говоря, все равно, больны вы или здоровы. Кто знает, возможно, вы скоро умрете. И, поверьте, это вряд ли по-настоящему огорчит меня. Ведь я даже не уверен, что имею честь беседовать с вами. Вообще вряд ли кто-нибудь станет читать эту писанину, так что пишу для себя. Пишу лишь затем, чтобы отвлечься от боли. Боль пронизывает все тело и долбит дятлом то в висок, то в руку, то в живот. Нет, я не собираюсь тут распускать нюни. Но мне надо выговориться...»

Марианна Рейбо
По словам выступающей, «Письмо с этого света» — «книжка постмодернистская, поскольку постмодернизм — это игра со старыми жанрами, хотя сама традиция делать образ Люцифера неоднозначным, играть с ним, менять акценты идёт ещё с эпохи романтизма от Байрона и Блейка». В романе есть прямые отсылки к Прометею, которые, как считает автор, «почему-то редко кто из критиков считывает»: это «борьба молодого человека, молодых людей против устоев, которые им кажутся уже закостенелыми — они не видят собственной реализации, не видят своего будущего». По словам Рейбо, «общество пытается им навязать сценарий, как у всех, но они этого не хотят: главная героиня, или главный герой, как угодно, не хочет этого сценария, но своего пути нащупать никак не может, и часто такой экзистенциальный бунт, а не какой-то там политический или непосредственно социальный, выражается в саморазрушении, а заодно в разрушении тех отношений, которые окружают человека, его любимых и близких». Писательница провела параллель между своим романом с отсылками к Прометею и классической литературой: так, «Освобожденный Прометей» у Перси Шелли — «это образ борца против устоявшегося миропорядка». В романе Рейбо «эти два образа соединяются» (Люцифера и Прометея).
Книга делится на две составляющие: на этот и на тот свет. Когда повествуется об «этом», то речь идёт о грехах большого города. Если о «том», то «это аллегорическая притча», где «с новой игровой стороны показана тема Адама и Евы и их грехопадения». Ныне покойный главный редактор одного из журналов, в котором Рейбо прежде работала, как-то сказал ей: дескать, Марианна, вы обращаетесь с библейским материалом «с гусарской лихостью». Писательница согласна с этой характеристикой: «немного есть такое, но это, конечно же, литературная фантазия, а не попытка что-то интерпретировать».
***
Вторая книга Рейбо повесть «Нано» (к ней писательница тоже вернулась в своём повествовании) «продолжает тему борьбы с системой и противостояния социальному окружению». Тут бунтарь — тоже молодое поколение, «ещё даже более молодое, чем в первой книге, но уже с точки зрения научной фантастики». Если конкретней, то герои повести — это люди 17−19 лет, школьники или те, кто только закончил школу, то есть это поколение Z, нынешнее поколение зумеров». Рейбо, «кстати, прямо сегодня утром прочитала исследование иностранных учёных о том, что поколение Z во всем мире считается самым несчастливым и неврастеничным за всю общую историю наблюдений, у зумеров самый высокий риск психических заболеваний; там есть и проблема социофобии, и разобщения, и проблема отцов и детей, и школьного буллинга; и в этом же исследовании сказано, что люди после 45 лет, напротив, очень неплохо себя чувствуют по сравнению с молодыми». Впрочем, писательница «не знает», насколько достоверна эта информация, просто прочитала.
Рейбо вспомнила, что в 2017 году в запрещённой ныне соцсети она обнаружила заметку о «создании шлема виртуальной реальности, который будет так правдоподобно воспроизводить картинку, звук, объём, что человек в этом виртуальном мире будет ощущать себя, как в настоящем, то есть сможет и двигаться, и общаться: такой полноценный симулятор, заменитель реального мира». Это и натолкнуло выступающую на написание книги «Нано». По словам Рейбо, «забавно, что действие в книге начинается как раз в 2025-м году»: так получилось, что ей «даже кое-что удалось угадать, предсказать — тогда ещё ничто не предвещало ковида, во время которого все вдруг резко ушли на удалёнку и в виртуал; и действительно стали создаваться виртуальные гостиные для встреч, всякие зумы и прочее». Писательница отметила, что в повести всё это воплощено «в такой крайне фантастической форме, где люди уже полностью перешли в виртуальное пространство». Хотя, делает ремарку Рейбо, её книга «всё-таки не столько о виртуальном мире, сколько о живых людях, прежде всего о подростках и их психологических проблемах».
Читать фрагменты из повести «Нано» Рейбо не будет, потому что «попробовала сегодня посмотреть» и поняла, что «текст тяжеловато воспринимается на слух, это лучше глазами читать». Поэтому писательница предложила всем «вспомнить студенческие годы», на тему которых у неё есть одна «озорная вещь». Сама Рейбо в 2009 году закончила факультет журналистики МГУ (автор сего репортажа закончил этот же факультет, только намного раньше), и у неё «осталась масса впечатлений от того славного времени». Их писательница «литературно переработала» в 25 страниц текста. По её мнению, он «хорош для чтения вслух, потому что состоит из эпизодиков»: «Когда я сижу в самолете, небрежно закинув ногу на ногу, и неспешно листаю глянцевый журнал авиакомпании, извлеченный из кармана переднего кресла, я вырастаю в собственных глазах. Я словно вижу себя со стороны, вальяжную путешественницу, стремительно рассекающую пространство, которое отделяет серый московский дождь от жаркого греческого солнца. Я медленно, со вниманием перелистываю отблескивающие на свету мелованные страницы с цветными картинками, по заклинанию авторов рекламных статей мысленно кочую то в одну страну, то в другую, погружаюсь в водоворот предстоящих там праздников, мероприятий и фестивалей. В ничтожной части этих стран я уже успела побывать, в большинстве других не побываю никогда, но это нисколько не умаляет деловитой сосредоточенности моего изучения...»
Рассказ поначалу был воспринят в зале не как художественное произведение, а как мемуары, поэтому возник вопрос, почему студенческое общежитие ни разу не было названо ДАСом (это Дом аспиранта и студента на улице Шверника, где живут иногородние студенты журфака МГУ: своё общежитие журфаковцы в мои времена иначе, чем ДАСом, не называли). Выступающая ответила, что в период её обучения ДАС называли по-разному, в том числе и просто «общагой» (моя ремарка: Рейбо москвичка и там не жила).
По словам автора, её рассказ — «сборная солянка», «вещь, построенная на эпизодах», «придумки», где «нет дословно реальных людей». То есть, с одной стороны, «все герои и ситуации вымышлены», а, с другой (гений — парадоксов друг?), «всё основано на реальных событиях: типажи, казусы — всё из нашей студенческой жизни» и «там от разных людей взяты черты и объединены в один персонаж,
— Эту вещь можно назвать гибридом воспоминаний или художественно переработанными мемуарами. Это вымысел, основанный на моих воспоминаниях о реальных впечатлениях. Типажи взяты с реальных прототипов, с реальных людей. Но это художественное произведение, а ни в коем случае не документалка.
***
Как водится, дальше начались вопросы-ответы.
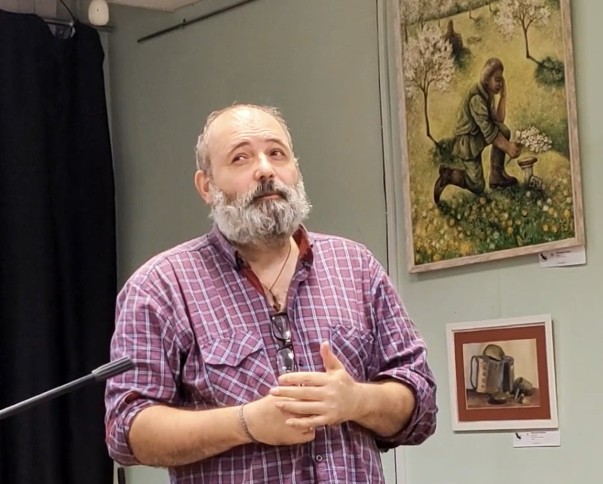
Николай Милешкин - ведущий клуба "Бегемот внутри".
Ведущий «Бегемота внутри» Николай Милешкин заметил, что уже больше 11 лет задаёт выступающим в клубе одни и те же вопросы: что сподвигло автора начать писать художественные тексты, и какие писатели в наибольшей степени повлияли на её творчество?
— Я начала пробовать писать очень рано, — начала писательница: — У меня с этим даже забавная история связана. Один из первых рассказов я написала в 13 лет и отправила на какой-то школьный конкурс. Тогда я ничего не выиграла. Сюжет был о любви советского мальчика и корейской девочки, эта идея была одной из самых первых. Прошло много-много времени, и уже совершенно взрослым человеком я взяла этот рассказ, переработала, сделала полноценным литературным произведением. Сюжет остался тем же, и даже какие-то куски остались почти неизменёнными…
По словам писательницы, текст вышел «приличным», «успешным», и его «охотно брали в издания, он собрал много наград». Выступающая даже пошутила, что когда-нибудь этот рассказ под названием «Грифельная дощечка» «высекут на её надгробном камне».
Кто из писателей повлиял на её творчество, Рейбо в точности не знает: она «не брала кого-то как учителя». В тот период времени, когда писала первую большую книгу, «очень любила Милана Кундера» (чешский и французский прозаик, поэт, драматург): «наверное, он оказал определённое влияние» с той точки зрения, что её творчество постмодернистское. По мнению Рейбо, нигилизм приобретает нынче «более архетипичные черты, свойственные целым поколениям, группам, а не только отдельным выдающимся персонажам, личностям, как это было раньше — сейчас тоже эпоха индивидуалистов». Вообще же Рейбо всегда любила и «по-прежнему любит» классическую литературу:
— Например, Булгакова и Достоевского. В подростковом возрасте очень любила Тургенева, всего прочитала. Лермонтова в отроческие годы тоже всего прочитала. Зарубежных писателей много. Я помню, на меня в своё время большое впечатление произвели романы «Суть дела» Грэма Грина, «Зима тревоги нашей» Джона Стейнбека и «Ночь нежна» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.
У выступающей «вообще была читающая семья», поэтому читать книги у них дома «было принято». В её детстве «их сначала читали вслух, причём книги серьёзные», потом она пристрастилась к чтению сама. Писательница вспомнила свой четвёртый класс: когда ей было 10 лет, учительница попросила школьников составить список любимых книг. Рейбо включила в свой список биографический роман Ирвинга Стоуна «Муки и радости» про Микеланджело. Учительница потом сказала девочке, что та это произведение не может понять, однако в неё книга «отлично заходила». Таким образом, литература писательницу всю «жизнь сопровождала».
Российских современных авторов Рейбо читает, но «никого не хочет выделять». Хотя и есть «какие-то культовые вещи», ей они «не очень нравятся». Она считает, что «литература должна проверяться временем».
***
Мой вопрос касался «классической темы лишних людей»: из прочитанных Рейбо фрагментов я не понял, «в чём именно они лишние внутри тех социальных группах, к которым принадлежат»?
Рейбо ответила, что, хотя в её книгах «Письмо с этого света» и «Нано» основная тема — это тема «отцов детей», однако не только:
— В обществе есть устоявшиеся принципы, которые считаются естественными и общепринятыми: вот закончил образование, пошёл на стабильную работу, женился (или вышла замуж), воспитывал детей. То есть это какой-то общий сценарий, который каждый родитель желает своему ребёнку. Но не каждому человеку подходит что-то общепринятое, стандартное. Иногда что-то вызывает в молодых людях серьёзный протест, особенно если это навязывается. Мой персонаж из «Письма с этого света» подвергается воздействию достаточно деспотичной, пусть и любящей, матери, которая решает за человека, где учиться, как жить, и подталкивает к браку с молодым человеком, который хоть и нравится персонажу, но не настолько, чтобы связать с ним свою жизнь. Это молодой человек, который «здесь и сейчас», а не тот, который будет завтра, послезавтра. Возникает тема побега из дома, протеста, поиска острых ощущений, эмоций, которых не хватает творческой натуре с большим потенциалом, но которая не может найти себя и своего пути. Подсказать и направить некому, а есть только давление, от которого человек бежит. Помочь сориентироваться в мире тоже некому, и она идёт вслепую. Или, если мы говорим о таком гибридном персонале как дух Люцифера, то это альтернативщик, который взбунтовался против уклада Божьего, попытавшись установить свой собственный. В классической канонической литературе это однозначно чёрно-белая история. Если мы сюда, например, примешиваем миф о Прометее, вспоминаем античную традицию, то акцент немножко меняется, начинается борьба одной силы против другой. И тут нельзя сказать, что кто-то из них положительный или отрицательный персонаж. Вот как сказать: Зевс положительный персонаж или Прометей? Это трудно. Я не возьмусь. Но… всё-таки Прометей однозначно положительный персонаж, и Зевс вроде неплохой. Акцент смещен: борьба одной [положительной] силы против другой.
Рейбо продолжила развивать свою мысль, которая опять может показаться то ли нелогичной, то ли парадоксальной:
— Вот есть заготовленный для человека рай, в котором он живёт на всем готовом, но в котором себе не принадлежит. То есть он чист, как чисто животное или как дитя, которое только что родилось. И дитя находится под опекой матери до семи лет. Считается, что человек до семи лет безгрешен, потому что он ещё не самостоятельный. А Люцифер это разрушает, говоря: будьте самими собой, возделывайте свои собственные сады, проявляйте свою волю. Дальше это разворачивается по классическому сюжету: мы видим, во что превращается воля человека, которая часто носит разрушительный характер. В книге всё это отражено. Это два альтернативных взгляда на мир.
По словам Рейбо, «бунт в нашей обычной повседневной городской социальной жизни тоже есть», и сейчас «он наиболее острый». Общество, считает писательница, «очень сильно разделено». Можно, с одной стороны, «посмотреть на условных традиционалистов, опять же без имён, без фамилий, которые достаточно агрессивно обвиняют людей в том, что они отказываются от каких-то устоявшихся форм сосуществования семьи и гендерных ролей: женщин обвиняют, например, в феминистических взглядах». Или, с другой стороны, это, наоборот, те, кто «активно борется против навязываемых традиционных условий и больше говорит о современности, о свободе, о социальных переменах». Это, по мнению Рейбо, и есть «острая борьба между старым и новым, которая сейчас на пике». Во второй книге «Нано» больше звучит «тема того, что молодых людей выбрасывают из жизни, выдавливают искусственно»:
— Там есть прямая отсылка к фильму «Матрица». Мы все, наверное, его смотрели. Вот ты лежишь, как капсула, спишь, а всё, что происходит в твоей жизни, это только порождение цифрового мира, который внедрён в твою голову. У меня фактически то же самое, но только герои знают, что реальный мир существует, однако они добровольно втягиваются в виртуальный мир, потому что он яркий, интересный, там прикольно, здорово. И чем дальше они туда уходят, тем больше понимают, что теряют себя, теряют свою жизнь. У них возникает куча психологических проблем, и они не могут себя обрести. Это такая, скажем так, замануха альтернативного ада, красивый, яркий ад для душ молодых людей, которых надо куда-то убрать, потому что общество не знает, куда их деть, куда их применить в мире, в котором нет образа будущего. Молодые люди становятся не нужны самому человечеству, они становятся лишними. Понятно, это утрированно, это фантастика, но все проблемы настоящие, они реально существуют, поэтому это очень условная фантастика. Я это так интерпретирую.
Последний роман «Транзишн» — о «стигматизации и противостоянии личных психологических особенностей людей, которые не принимаются в обществе». Этим тезисом Рейбо закончила свой длинный ответ на мой вопрос, после чего из зала прозвучал новый (в продолжение): всегда ли, с точки зрения автора в противостоянии права одна сторона (например, молодое подрастающее поколение) или, как в случае с Прометеем и Зевсом, каждый прав-по своему?
Рейбо ответила, что, на её взгляд, сейчас «мир приобретает какие-то более радикальные оттенки». Сама писательница «вообще не любит деления на чёрное и белое». Она считает, что «мир неоднозначный и сложный», и поэтому те произведения слабые, «где очень чётко» сказано, что вот эти персонажи такие хорошие, а вот эти такие плохие, хотя классической традиции это как раз свойственно»:
— Мы всё-таки не в XVIII веке живём, у нас уже немножко другое восприятие. Поэтому у меня нет каких-то полностью отрицательных или полностью положительных персонажей. Ну, может быть, в «Нано» и есть парочка, которых можно однозначно отнести к сугубо отрицательным, но они второстепенные, эпизодические.
Тем не менее «сочувствие и понимание» Рейбо всегда «на стороне молодых людей, молодости, потому что молодость — это всё-таки будущее». С её точки зрения, «будущее имеет право быть таким, каким мы, может быть, его не предвидим и не закладываем». И вообще «мы не знаем, каким оно будет»:
— Мы не хозяева своим детям. Очень часто у нас в стране отношение родителей к детям — как к своему продолжению в самом крайнем смысле этого слова: вот я тебя породил, поэтому если не убью, то заставлю жить так, как считаю нужным. Сама я сильно против такого подхода. Когда человек не видит будущего, когда молодые люди не видят будущего, это страшно, потому что им некуда двигаться, они либо уходят в деструктивное разрушение себя, либо куда-то прячутся, уходят в прокрастинацию, в мир собственных фантазий: фэнтези, игры — это всё побег от реальности, как и любая зависимость. Да, я всё-таки на стороне новаторов.
***
Из зала попросили выступающую почитать стихи её мамы.
Рейбо рассказала, что она «дочь замечательной поэтессы Анастасии Харитоновой», которую «знали в литературной среде» и про которую в 1990-е годы «были репортажи на телевидении». Мама писательницы «трагически ушла из жизни в 2003 году». Недавно благодаря арт-проекту «Бегемот внутри» и его ведущему Николаю Милешкину был проведён вечер памяти Харитоновой, за что писательница благодарна и проекту, и ведущему.
Рейбо прочитала несколько стихов своей матери, один из которых приведу тут полностью:
Бесшумные флаги застывшей страны
Ленивы, громадны, как зимние зори.
И всё до конца повторить мы должны,
Бесправной свободой гражданской войны
Запив ледяное сиротское горе.
Такие мгновенья! Господь, не покинь…
Душа уповает и сдаться не хочет.
Но призрачный крейсер с названьем «Полынь»
По глади слепых полноводных пустынь
Как смерть, наплывает, как буря, грохочет.
И я в этом вихре понять не могу —
Куда нас теснят? И над кем мы рыдаем?
И кто распростерся на красном снегу?
И что там сверкает, на том берегу?
Который, скажите, мы свет покидаем?!
— Когда ваша мама погибла, вам было 16 лет. Успела ли она как-то повлиять на вас? Было ли вообще в жизни родительское давление или она подавала пример? Давала ли какие-то рекомендации, что читать? — задал вопрос ведущий.
— Мама никогда на меня не давила. Она была очень замкнутым в себе человеком и на сто процентов посвящена своей творческой деятельности. Поэтому сказать, что она оказывала на меня какое-то специальное влияние, я не могу. Она сама была во многом как ребенок, полуженщина-полуангел в буквальном смысле этого слова. Мама была сильно не от мира сего. При всей мощи её стихов в жизни она была человеком по-детски совершенно беспомощным.
По словам Рейбо, её мама прозу не писала: «дедушка и отец были поэтами, бабушка журналист», она и сподвигла внучку поступать на факультет журналистики, и сейчас Рейбо занимается этим «как ремеслом». В общем, «прозаиков в семье вообще не было». Впрочем, у мамы Рейбо «есть пьесы и прекрасные эссе, которые опубликованы».
Анастасия Харитонова переводила также с польского на русский стихи главы Римско-католической церкви папы Иоанна Павла II, которые прежде на язык родных осин не переводились. В 1998 году во время встречи с папой Римским в Ватикане Президент России Борис Ельцин сделал понтифику сюрприз: подарил книгу этих переводов.
У самой Рейбо есть несколько собственных стихотворений, но серьёзно к своей поэзии она не относится, ибо «всё-таки прозаик и публицист».
***
— Кто из преподавателей журфака МГУ запомнился вам больше всего? — это был мой вопрос.
— Ванникова преподавала зарубежную литературу. Она была старенькая-старенькая. Даже когда ей было за 90 лет, она до последнего ходила читать лекции. Татаринова, тоже старушка такая, читала у нас древнерусскую литературу и могла заплакать на лекции от произнесения фамилии. Это было очень мило. Она очень хорошо читала.
— Кучборская античную и французскую литературу читала у вас?
— Нет, у нас её уже не было. Но вся кафедра зарубежной литературы была очень сильной, очень хорошей.
— Засурский читал?
— Засурский читал лекции по журналистике. Но не сказать, что это были лекции. Он уже любил уходить в какие-то свои лирические рассуждения. Мы его очень любили, уважали, но сказать, что у него были какие-то содержательные лекции, я не могу. Однако они были такие трогательные, связанные с его воспоминаниями о чём-то личном. Было забавно, как он восхищался современными технологиями. Каждый раз на лекции он любил доставать мобильный телефон и говорить: вот у меня мобильный телефон, я могу в нём сделать это, это и это. Для нас, студентов, мобильный телефон был привычным новшеством. Мы как-то быстрее осваивали новые технологии. А для пожилого человека это было такое чудо техники, и это было очень трогательно.
***

Марианна Рейбо
Вопросы из зала продолжились:
— В одном из отрывков, что вы прочитали, героиня находится в глубокой депрессии. Во втором отрывке дьявол, когда его изгоняют, оказывается ровно в этом же положении: он лежит, не шевелится. Это связано с каким-то личным опытом? Если да, то может ли, на ваш взгляд, опыт депрессии дать что-то для творчества?
— Да, у меня были депрессивные состояния. Те состояния, которые я описываю, знакомы мне не понаслышке. Вообще «Письмо с этого света» строилось как максимально глубинная исповедь персонажа. Персонаж раздевается полностью, прямо до костей. Сделать такую вещь с абсолютно максимальной откровенностью, не обращаясь к себе, просто невозможно. Понятно, что тех бурных приключений, которые происходят с персонажем, я не переживала, но в его чувства, ощущения, воспоминания, я, конечно, вкладывала очень много своего. Меня критиковали за это, может и вполне справедливо. В начале книги есть несколько страниц от меня, где много описаний подростковых ощущений, переживаний и комплексов, фантазий зарождающейся сексуальности. А кому-то, наоборот, нравилось, что много личного. Говорили: надо же, ты так хорошо помнишь, как это переживается. То есть кому-то это отзывается, а кому-то кажется скучным: мол, давай скорее сюжет. Вот в «Нано» три основных персонажа (трое подростков: две девушки и один парень) — туда я себя разложила в каждом. Во всех троих есть достаточно болезненное от меня, скрытое. Мне вот совсем недавно говорили, что личное присутствие автора в книгах не очень хорошо. А я не понимаю, почему это «не очень хорошо».
— Из прочитанных вами фрагментов не видно, что романы сюжетные.
— Они все сюжетные. И сюжеты достаточно напряженные. Когда сюжет плотный, достать оттуда кусок, который можно прочитать вслух, очень трудно. Поскольку это связанный текст, его надо целиком читать. Поэтому я прочла какие-то лирические отступления, лирические куски, которые можно прочитать отдельно от сюжета.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

