Черный рай. Рецензия-очерк
Радлова Анна. «Повесть о Татариновой. Сектантские тексты» (Составление, предислов. и примеч. Александра Эткинда. – СПб, Изд. Ивана Лимбаха., 2022

Кто такая Анна Радлова? Большинству любителей и даже знатоков литературы это имя знакомо в основном как талантливой переводчицы и знатоку творчества Шекспира и других авторов. Она перевела 6 пьес Шекспира. Её переводы с английского и немецкого языков издаются до сих пор, но мало кто подозревает, что борьба за эти переводы, – точнее за право их публикации, – в 1930-е годы означала борьбу за право на выживание. Тогда перед литературными властями стояла дилемма, кому платить гонорары: Анне Радловой или Б. Пастернаку за одинаковые, по сути, переводы. А кто решал? Те или иные партийные руководители, в большинстве своём не знавшие ни иностранных языков, ни смысла переводимых произведений, именно в их руках была и финансовая и административная власть. Но это в порядке введения.
На самом деле Анна Радлова (в девичестве Дармолатова, 1891–1949) была одной из интересных поэтесс и писательниц Серебряного века. Выйдя замуж за Сергея Радлова, театрального режиссёра, авангардиста, она, как и многие другие, закружилась, после революции 1917 года в театральном вихре массовых сцен, ставимых её мужем. Например, такие массовые зрелища, как «Блокада России» (1920 г.), «Победа революции» (1922 г.), в постановке которых участвовало от 2-х до 3-х тысяч статистов. Это превосходило даже революционные искания Мейерхольда. Но постепенно так называемый революционный пафос и экстаз стали стихать, и А. Радловой, как и её супругу, пришлось задуматься о выборе дальнейшей деятельности.
Анна Радлова и до, и после революции была уверена в том, что революционный пафос являет собой новую веру, основанную на глубоких традициях русского национального духа, русского бунта, бессмысленного и беспощадного, по слову поэта. И тогда она обратилась к изучению основ русского сектантства, особенно хлыстовства и скопчества. Как ни странно, в этом помог ей оставшийся в советской России Михаил Кузмин. В одном из своих стихотворений того времени (конечно, не опубликованном) он описывает хлыстовские радения, сравнивая их с древнегреческими дионисиями и вакханалиями:
Так Михаил Кузмин понимал тайный смысл хлыстовского радения и возможного преображения христианской религии в сектантском духе. Религиозным сектантством увлеклась и Анна Радлова. Это было неудивительно: само явление революции, особенно большевистской, у многих вызывало естественную ассоциацию с самыми дикими религиозными сектами, распространившимися в России ещё в XVIII – XIX веках. О сектантах из символистов ещё до революции писали Андрей Белый, Д. Мережковский, М. Кузмин, А. Ремизов и даже после революции Максим Горький в романе «Жизнь Клима Самгина», Всеволод Иванов, Б. Пильняк и другие. После публикации «Серебряного голубя» А. Белого, где описывалась встреча поэта-богоискателя с сектантами, окончившаяся для него трагически, эта тема вызвала разнообразную реакцию со стороны многих писателей и поэтов того времени. Сразу вспоминаются «Пятая язва» А. Ремизова и «Сатана» Г. Чулкова. Но, конечно, следует сказать, что «первооткрывателем» темы сектантства в русской литературе следует считать П.И. Мельникова-Печерского в его романах «В лесах» и «На горах», а также в публицистических и документальных заметках, которые он по долгу службы отправлял начальству. Будучи сам чиновником по особым поручениям министерства внутренних дел, он, в частности, занимался исследованием и искоренением старообрядчества.
То, что в XIX веке рассматривалось как форма официальной, отчасти бюрократической деятельности, в эпоху наступившего периода богоискательства и богостроительства и, конечно же символизма, приобрело совершенно другой смысл. Официальное церковное христианство как бы «покачнулось». Уже знаменитый Лев Толстой начал создавать свою секту, вследствие чего был объявлен церковью «отпавшим» от истинного вероучения. Само собой разумеется, что среди богоискателей-символистов поиски новых вероучений стали общепринятыми.
Процитируем А. Эткинда, автора предисловия к обсуждаемой книге: «В кругу адамистов-акмеистов, футуристов и формалистов не только знали опыт русского хлыстовства, но ссылались на него с очевидным удовольствием. В основополагающей статье Виктора Шкловского (1916 г.) /речь идёт о статье Шкловского «”Заумный язык” и поэзия». – Г.М./ хлыстовские распевцы предлагались в качестве прямого предшественника зауми в новой русской поэзии» ( стр. 70). Разумеется, здесь подразумевалась и «заумь» В. Хлебникова и А. Кручёных. Эту «заумь» иногда называют глоссолалией, т.е. некой невнятицей, которая будто бы имеет скрытый эзотерический смысл, но нам кажется, что русские футуристы всего лишь подражали итальянским, особенно Т. Маринетти, в произведениях которого глоссолалия появилась ещё раньше.
Все эти течения напрямую отразились в творчестве А. Радловой. Она не стремилась подражать футуристам, но её поэтическое творчество с самого начала было насыщено тёмными языческими образами.
Эти начинания чрезвычайно одобрял самый большой поклонник поэзии Радловой М. Кузмин: «”Вещее пророческое беспокойство на неё находит”, – пишет он, используя характерный хлыстовский глагол; она “одержима видениями и звуками”, но это лишь достоинство её стихов. “Поэт едва успевает формировать подсознательный апокалипсис полёта, пожара, вихря, сфер, кругов, солнц, растерзанной великой страны”» (стр. 38-39). Это отрывки из его рецензии на один из поэтических сборников А. Радловой «Крылатый гость». М. Кузмин был настолько очарован поэзией Радловой, что посвятил ей свою последнюю поэму «Форель разбивает лёд».
Может показаться странным, что супруги Радловы и живший вместе с ними «в тройственном браке» Корнелий Покровский[1] – инженер и любитель поэзии, – были убеждены, по крайней мере до конца 30-х годов и начала большого террора, в том, что советская власть как бы является одним из воплощений русского национального, т.е. по их мнению, сектантско-хлыстовского духа. В середине 20-х годов в семействе Радловых образовался своего рода литературный кружок, наподобие известных дореволюционных «воскресений», «сред» и др. у Мережковских, В. Розанова, а также собраний на башне у Вяч. Иванова. В гости к Радловым приходили М. Кузмин, О. Мандельштам, К. Вагинов и другие. Тогда же зародилась и известная литературная «склока» – соперничество между двумя Аннами: Анной Радловой и Анной Ахматовой. М. Кузмин и люди, близкие к бывшим акмеистам, считали Анну Радлову намного выше и талантливее других поэтесс Серебряного века – Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. А поклонники Анны Ахматовой называли Радлову лже-Анной. Сама же А. Ахматова однажды назвала её «жабой». Что ни говори, разного рода конфликты всегда были свойственны литературе. Ситуация достигла кульминации в 1938-м году, когда официальный второй муж Радловой К. Покровский в предчувствии своего ареста покончил с собой, и бывшая семья Радловых после развода в 1926-м году воссоединилась.

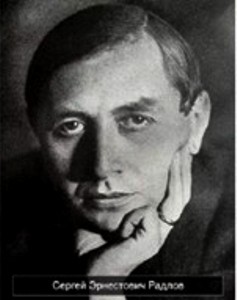
Анна Радлова 1910 г., фото М. Ниппельбаума. Сергей Эрнестович Радлов.
***
А. Радлова в конце 1920-х – начале 30-х годов, обратившись к прозе, нашла отражение и своего автобиографического образа и некоего воплощения женского идеала в таинственном, полумистическом историческом персонаже – Татариновой Екатерины Филипповны (29 августа 1783 – 12 июля 1856), русской религиозной деятельнице XIX, организаторе общества «духовных христиан» в аристократической среде Петербурга. В обществе Татариновой порой принимало участие до шестисот человек, причём иногда эти собрания посещал сам император Александр I. Татаринова жила в так называемом Михайловском замке[2], после смерти Павла I отмеченного некоей мистической сутью. Этой героине А. Радлова посвятила самое крупное своё прозаическое произведение «Повесть о Татариновой» (1931 г.). Может показаться странным, но Радлов надеялся опубликовать этот текст и даже получил разрешение от Горлита, тогдашней официальной цензуры. Но – увы! – это были только мечтания; не мог он быть опубликован в то время и вышел в свет только в 1997 году.
Нужно сказать, что «Повесть о Татариновой», строго говоря, повестью и даже художественным произведением не является: это собрание выписок разного рода из мемуаров и архивов, сгруппированных вокруг образа главной героини. Судя по свидетельствам разных авторов, а также по тексту повести, Татаринова обладала незаурядными способностями к ясновидению и целительству. Вот что, например, пишет генерал Головин (по тексту повести): «Дражайшая Катерина Филипповна, – писал генерал. – Вы исцелили меня от недугов телесных, закончите благочестивое дело ваше и уврачуйте душевные мои недуги. Здесь надо открыть тайны сердечные. Два года тому назад я получил преступную привязанность к домашней горничной девке. (…) Снимите с меня, примите на себя мою немощь. Только на вас, дражайшая Катерина Филипповна, и Господню через вас помощь уповаю. Прилагая при сём дарственную запись на девку Наталью Осипову, целую ваши ручки и остаюсь навсегда преданный Вам Е. Головин.» ( стр.124). Это официальный документ, который приводится А. Радловой в книге. А дальше следует интересный ответ: Генерал Евгений Александрович Головин был полностью исцелён Татариновой от этой пагубной страсти после 747 дней неистового увлечения: он впервые, «просыпаясь, не вспомнил вишнёвый смешливый Наташин рот, а сразу зазвонил камердинера и приказал подать умываться. Умывшись и одевшись в полную парадную форму, поехал на Царицын луг на парад, который должен был принимать великий князь Николай Павлович, второй брат государя» (стр.125). Так предстаёт Е. Татаринова в повести А.Радловой.
Часть из персонажей повести Татариновой упомянута в разного рода литературе, касающейся русского сектантства, но некоторые, – особенно это относится к деятельности главы секты скопцов Кондратия Селиванова, также одного из основных персонажей в повести А. Радловой, – оставались неизвестными до сих пор. К. Селиванов был не простым скопцом, но и писателем, оставившим после себя некоторые религиозно-философские сочинения – «Страды» и «Послания». Известно даже, что портрет Селиванова тиражировался скопцами и хранился в домах его сектантов как икона. Существенную часть «Повести о Татариновой» занимают рассуждения о Кондратии Селиванове.
Бытовало и такое предание, будто бы дочь Петра – Елизавета Петровна – не вступила на царский престол, а ушла «в народ», где приняла имя Акулина Ивановна, и родила сына Петра Фёдоровича (будущего императора Петра III), который, отправившись на учение в Германию, принял оскопление, и позже явился в России Кондратием Селивановым, чтобы наставлять русский народ на путь истинный. Кондратий Селиванов себя считал оскоплённым императором Петром III. Что это? Новый вариант Пугачёва? Не менее удивительно, что императора Александра I он считал своим внуком. Может показаться просто странным, что в 1805 году император Александр I встретился с Кондратием Селивановым и имел с ним продолжительную беседу, о чём написан ряд воспоминаний мемуаристов – С.П. Лугиновский, Н. Дубровин и др. (стр. 164). Никаким преследованиям ни К. Селиванов, ни секта скопцов при Александре I не подвергались.
Следует отметить ещё один интересный литературный факт, приводимый А.Эткиндом, но который мне представляется недостаточно обоснованным: во время мистического превращения императрицы Елизаветы Петровны в некую Акулину Ивановну, она будто бы говорила: «Не хочу быть царицей, Елисаветой Петровною, / Хочу быть церковью соборною» (стр.24). А. Эткинд из этого делает вывод, что стихотворение Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» имеет отношение к хлыстовским и скопческим песнопениям. Однако это не совсем так, потому что «Сказка о рыбаке и рыбке» является авторизованным пересказом немецкой сказки братьев Гримм. В черновиках этой сказки у Пушкина была фраза: «Не хочу я быть вольною царицей, / Я хочу быть римскою папой!». Отсюда возникает вопрос, а имела ли влияние западная литература не только на Пушкина, но и на хлыстовство? Поскольку все участники общества Татариновой были весьма образованными людьми, можно допустить положительный ответ на этот вопрос.
В творчестве А. Радловой есть немало намёков на близость идеологии большевистского режима к сектантским вероучениям. Некоторые из них поражают своей проницательностью, тем более с учётом перипетий её судьбы. Установившийся большевистский режим она, как и многие символисты (Н. Бердяев, М. Булгаков, В. Эрн и другие), рассматривала как одно из проявлений русского сектантства, но так же, как и они, считала, что впереди грядёт некое обновление. История показала, что это не так. В 1942 году из блокадного Ленинграда Анна и Сергей Радловы были эвакуированы в Пятигорск, который вскоре был оккупирован немцами. Радловы выступали в различных театрах, в том числе и на фронтах, в оккупированной Европе, а к концу войны обосновались на юге Франции. После её окончания, будто бы по предложению советской миссии, они вернулись на родину, где были сразу же арестованы и приговорены к 10-и годам заключения в лагере под Рыбинском. Там Анна Радлова умерла в 1949 г., а Сергей Радлов был освобождён в 1953 году, правда, без реабилитации и с запрещением проживания в Москве и Ленинграде. Последние годы он работал в театрах Риги, где скончался и похоронен в 1958 году.
Судьба этих людей, можно сказать, была «обычной» для деятелей Серебряного века. Вспоминается стихотворение Евгения Боратынского:
Хочется завершить эти заметки небольшим стихотворением Анны Радловой, перекликающимся с «Молитвой» Евгения Боратынского.
Сердце не забывай, / Есть другой чёрный рай.
Этот «чёрный рай», к сожалению, и оказался последним пристанищем для многих деятелей «Серебряного века».
Санкт-Петербург, 31.08. 2025 г.
[1] Корнилий (Корнелий) Павлович Покровский (1891-1938) – окончил частное Тенишевское коммерческое училище и Институт гражданских инженеров Николая I. Инженер-электрик. Прошёл ускоренный офицерский курс Пажеского корпуса и выпущен в мае 1915 г. прапорщиком в Лейб-гвардии 4-й стрелковый полк. В августе того же года был ранен. Награждён в чине поручика орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью "За храбрость". В августе 1938 в ожидании очередного ареста покончил жизнь самоубийством в Ленинграде.
[2] В Михайловском замке собрания продолжались до 1822 года, когда императором Александром I был издан рескрипт о запрещении тайных обществ. Она переехала в пригород Петербурга, где проводила собрания ещё 12 лет. В 1837 г. Татаринова и ряд членов кружка были арестованы за организацию тайного общества и приговорены к ссылке. Татаринова была помещена в Сретенский женский монастырь, где через 10 лет подписала отречение от противоречащих православному учению взглядов. После жила в Кашине под полицейским надзором. 14 июля 1848 года Татариновой было разрешено жить Москве, где она и умерла.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

