Михаил Гиголашвили: «Собаки лают – караван идёт»
Дмитрий Бавильский (25/06/2012)
1.
- Критика говорит о параллельных курсах, которыми вы идете с прозаиком Михаилом Шишкиным. Насколько сознательный у вас идет диалог (если, конечно, он, вообще есть)?
- С Мишей у нас идет достаточно интенсивный личный диалог в жизни, однако о параллельных курсах в прозе я бы не говорил: у нас разные манеры и способы письма, разные приоритеты, различные - порой противоположные - кумиры, а также разная тематика и манера изложения, что, однако, не мешает нам дружить и, заметь, не как кошка с собакой, не как Достоевский с Тургеневым, а как Пушкин с Гоголем.
Разность нашей прозы видна уже в том, что его широко и успешно переводят на разные языки, а мои вещи переводить оказалось довольно сложно, хотя и были попытки. О «Захвате Московии» критики прямо говорят, что текст не подлежит переводу
Я высоко ценю прозу Миши, у него есть абсолютно летящие страницы, где дух читателя полностью подчинен воле автора, силе его таланта.
А критика в основном упрекает нас в том, что мы живем в «сытой и благополучной Европе» (причем с такой средневековой яростью, что можно подумать, что это мы с ним вдвоём объели, разокрали и раскурочили голодную и несчастную Россию), а также всё уточняет, кто у кого украл (позаимствовал, одолжил, взял без спросу) образ рассказчика-толмача, так что скоро этот сакраментальный вопрос будет решаться, как в том анекдоте – «то ли у него пальто украли, то ли он украл, а в сущности – какая разница?»…
- Ну, вопрос первичности можно решить очень просто, путем хронологии - насколько я знаю, первые пять глав твоего «Толмача», объединенных в повесть "Дезертиры", где уже вовсю действует толмач-рассказчик, вышли в 2001 году ("Знамя" № 10), роман вышел полностью в 2003 году. А роман Шишкина "Венерин волос" - в 2004 или даже 2005 году, так что тут всё ясно.
Мне интересно другое: время от времени я пишу о чужих текстах, анализирую их, поэтому хочу спросить - как часто критики угадывают ваши авторские намерения? Или чаще «мажут» мимо? Вообще читаете критику на свои вещи?
- Да, читаю, почему нет? Всегда можно найти какие-то интересные здравые зёрна или, во всяком случае, понять тайные пружины и причины рецензентов (если только рецензентами не двигали какие-либо иные силы, кроме литературных).
К тому же у меня есть два-три доверенных человек (причем из разных слоев общества), которым я обязательно даю новые тексты на апробацию.
В случае с «Захватом…» однозначного ответа нет, я вообще удивлен разбросом мнений – от хвалы до хулы: кто-то считает роман большой удачей (и доказывает это), кто-то – наоборот, большой неудачей (и тоже приводит свои аргументы), причем при чтении последних у меня возникает стойкое впечатление, что я попал в самое яблочко, но рецензенты не хотят в этом признаться (может, и самим себе), и поэтому пытаются в ответ как-то выместить свою фрустру, норовят найти какие-нибудь ложки с дёгтем, причем в основном жмут на то, что я якобы не знаю реалий, хотя должны были бы понимать, что знание автора не совпадает со знанием рассказчика, в данном случае – иностранца, попавшего в новую и непонятную ему среду: как же он может за десять дней, из которых половину сидит в участке, «всё узнать»?
[Иногда попадаются смехотворные высчитывания типа: как это так, поезд из Нормандии в Германию идёт три недели, причем начётчики не учитывают, что описан конец войны, всюду хаос и поезда стоят сутками на станциях. Или другой пример. Один персонаж романа, старуха-соседка говорит, что россиянам нужна виза в Украину. Ревизоры тут же делают мне, как автору, упрёк: мол, не знает, что виза не нужна. Да я-то знаю, это мои персонажи не знают. Не надо путать знание автора со знанием его героев! Это элементарный примитивизм, простительный «рядовым» читателям, но удивляющий своим скудомыслием в суждениях профессиональных критикантов].
Кто-то пишет совсем уж странные фразы о том, что роман оставляет впечатление переводного и что такой текст мог бы написать такой дурачок, как Фредя, который черпает информацию о России из текстов Достоевского и страшилок друзей.
Тут рецензент явно хотел съязвить, а попал как раз в точку, и я принял это как комплимент, этого я и добивался: написать роман в виде квази-переведенного с немецкого языка дневника иностранца, и мне много работы стоило привести текст именно к этому знаменателю, а героя-рассказчика порядком «одебилить».
Что интересно: некоторые критики, от которых я ждал понимания этого текста или хотя бы более внятных суждений о языке (ведь весь роман – это гротеск, сатира и чистый лингво-эксперимент, много ли есть русских романов, написанных от лица иностранцев? – назови, буду рад узнать), так вот, эти профессионалы были поверхностны и отмахнулись одной-двумя хулительными фразами от 600-страничного романа, как-то не заглянули внутрь (впрочем, их право), а вот от «простых» читателей приходят очень дельные и деловые оценки и замечания, а также письма благодарности, что для меня куда важнее всего остального, ибо литература пишется не благодаря критике, а часто вопреки ей.
Но вообще удивительно, как один и тот же текст может вызывать такие разные реакции и так по-разному влиять на людей!..
[Впрочем, каждый человек видит и чувствует наш мир (и искусство, как часть мира) по-своему, идентифицирует себя с разными героями в силу своих внутренних качеств, притяжений и отталкиваний по принципу: кому – поп, кому – попадья, а кому – попова внучка или даже попович, по новой моде].
А в общем вывод такой: собаки лают – караван идёт, хотя эти собаки иногда позволяют себе хамить и грубить (у некоторых это даже возведено в стиль их «анализов»), что тоже не удивительно: ведь рецензенты – тоже часть общества, той татаро-монголо-византийской структуры, в которой хамство и произвол верхов и раболепие низов составляют единое целое и не могут друг без друга существовать. Каков поп – таков и приход!
Обобщая, могу повторить слова одного очень опытного книговеда, который сказал, что «у нас критика не влияет на читательские интересы и объемы продаж», что, в принципе, одновременно и хорошо и плохо.
И я даже не могу сказать однозначно, хорошо это или плохо, и чего бы мне хотелось: чтобы критика формировала вкусы читателя (как это было в XIXвеке) или чтобы читатель сам находил своих авторов, безотносительно от рецензий и статей, так как заказные статьи и оплаченные рецензии стали такой же частью социума, как и всё остальное, особенно если кого, не дай бог, погладить не по шёрстке или, забыв политкорректность, сказать правду в лицо.
- Сравнивают ли ваш последний роман с предыдущими?
- Да, часто звучат сравнения «Захват Московии» с «Чертовым колесом», хотя эти два романа очень разные: один написан от автора, в стиле строгого реализма, другой – в русле сатирического контекста плутовского романа, novela picaresca, где много внимание уделено языку. Часто сравнения не в пользу «Захвата Московии».
- Ну почему же? Я бы так не сказал. Вот, просматривая статьи и рецензии на роман, я обнаружил, что недоброжелатели о языке упоминают как-то вынужденно, вскользь, сквозь зубы, зато многих «доброжелательных» рецензентов как раз зацепила манера «Захвата…»:
кто-то считает, что язык романа – это «гремучая смесь к которой надо привыкнуть, а привыкнув, получаешь удовольствие»;
другой отмечает «лингвистические кундштюки, словесные головоломки, иллюстрации разницы мышления и лингвистики европейской и российской, невероятно изобретательное жонглирование»;
третий уверен, что в романе «проговаривается значительное количество фундаментальных истин, … но важнее всего сам текст, ювелирная работа автора с языком»;
кому-то кажется, что «сделано это всё удивительно - такое ощущение, что в это феерическое роуд-муви пускаются вслед за героем сами слова, сами буквы русского языка! Меняясь местами и выпадая из обоймы, они образуют какие-то уморительные словесные конструкции - ввиду этого становится очевидно, что возможности русского языка поистине безграничны!»;
кто-то видит в плутовских коллизиях «своего рода вертел, на котором поворачивается основное блюдо, чтобы пристальный авторский взгляд мог пропечь его с разных боков. Блюдо это – русский язык, который совершенным образом отражает нашу реальность, с ее пластичностью и человечностью и одновременно – абсурдом, ненадежностью и «словариком жлобского языка», который герой таскает в кармане».
Какие вообще задачи вы ставили, когда писали «Захват Московии»?
- Задач было две: с одной стороны, сделать рассказчиком иностранца и через его новый свежий взгляд дать картину нравов, с другой стороны – сделать героем русский язык во всей его необъятности, который в процессе письма стал доминантным и стянул на себя всё внимание и вообще стал гулять сам по себе, как Нос майора Ковалева. И как гулять!..
С цыганами и романсами, так, что остановить его было трудно, и это вызывает у некоторых резкое неприятие, а у некоторых – удовольствие и пожелания, чтобы всех этих лингво-кундштюков было побольше и чтобы я поскорее писал продолжение о дальнейших злоключениях Фреди.
Для меня «Захват Московии» значил, может быть, больше других текстов потому, что здесь я полностью лингвистически раскрепостился, снял все запреты и плыл по волнам языка, не оборачиваясь на запретные буи типа «так не говорят» или «так сказать нельзя». Можно всё – другое дело, примут ли эти новшества читатели, поймут ли… Помнится, примерно такое же чувство освобождения, свободы, безграничности логоса я чувствовал, когда читал «Петербург» Андрея Белого.
- Миша, каждый раз вы точно усложняете себе техзадачу, экспериментируя с жанрами и структурой, для чего это нужно? Чего вы добиваетесь? Как на вашу работу влияет филологическая выучка?
- Дима, я специально задач заранее не ставлю, то есть не сижу и не думаю, что вот, было бы хорошо написать криминальный, лингвистический или реалистический роман, или, того хуже, постмодернистский (состоящий из нарезанных цитат и украденных где попало абзацев чужих текстов). Просто я убежден, что художник должен развиваться, не застревать на взятых рубежах.
Впрочем, тут есть две теории: по одной художник должен быть узнаваем сразу, а для этого он всю жизнь должен сохранять свой стиль (как Шагал, например, или Олег Целков), по другой – его стиль должен меняться вместе с тем, как с годами меняется он сам, его личность (как Пикассо или Малевич). Вы же мои коллажи и объекты видели?.. Они все разные. Так у меня и в прозе. В данном случае просто сам материал повёл в сторону лингвистической акробатики.
Признаться, я несколько раз хотел бросить писать «Захват…», так как сомневался, можно ли перепоручить иностранцу без языка, «немому немцу», быть рассказчиком всего текста. Но заставлял себя идти дальше, и постепенно становилось легче, игры захватывали, затягивали, крутить этот лингво-вертел было всё веселее, а особенно интересным было изобретать новые слова, неологизмы, тянуть аналогии по оси «слово-смысл».
Еще была некая азартная злость – ведь в адрес «Чёртова колеса» было много упреков в плоскости, примитивности и газетности стиля, и, очевидно, это как-то засело у меня в мозгах, породило желание показать свои возможности типа «и мы не лыком шиты»... Что ж делать, слаб человек на приманки и соблазны!
Очень возможно – и даже совершенно точно – на этот роман повлияло и мое активное и плотное общение с Мариной Палей – это удивительный талант, виртуоз-стилист, писатель с абсолютным литературным слухом и вкусом и с пристальным неукоснительным вниманием к языку. Наше общение меня, без сомнений, раскрепостило в плане языка.
Что же касается филологической выучки, то я учился на отделении литературоведения, упор был делан не на языке. Языкознанием не любил заниматься и получил единственную четверку в дипломе по истории языка, потому что часто спорил с преподавателем по разным вопросам, в частности, помню, доказывал ему, что никто не может знать, как звучали древнеславянские дописьменные фонемы именно потому, что они дописьменные, а все древние славяне умерли и, следовательно, никто нам все эти большие и малые юсы в точности воспроизвести не может.
[По большому же счету любой пишущий человек, если, к несчастью, у него филологическое образование, должен, садясь за чистый лист бумаги, постараться забыть всю эти филологию, не то он просто погибнет под грудой информации или превратится в таких горе-критиков и беда-рецензентов (процентов на 80 состоящих из неудачливых прозаиков и несостоявшихся поэтов), которые действуют по типу «так как сам я ничего сносного написать не могу, то лучше буду учить других и всем свой великий ум показывать буду». Мне их жаль. Но мир жесток, и слоган «каждому - свое», «suum cuique», был выдуман задолго до ворот Бухенвальда].
- Расскажите о ваших исследованиях Достоевского и о том, как они повлияли на ваши писательские пристрастия?
- Главных уроков Достоевского много, в их числе для меня важные: решать и вести сюжет через диалоги и уделять особое внимание фигуре Я-рассказчика, ибо именно его взгляды на мир, интонации, лексика, мысли и страсти в конечно счёте определяют и скрепляют текст в единое целое, как психологически, так и лингвистически. Если рассказчик не выдержан, слаб, дает разного рода сбои – то и весь роман рассыпается.
[Интересно, что самого Достоевского довольно часто упрекали – и небезосновательно - за то, что язык/и его героев часто совпадают между собой и с языком автора, проще говоря, всё пишется одним языком. Да, это иногда можно наблюдать, и происходило это из-за скорости, с которой он был вынужден был писать и сдавать материал. Он сам знал об этом и не раз отмечал у себя в дневниках, что дай ему судьба 10 лет на один роман, то и он бы писал не хуже Тургенева…].
Достоевский первый широко ввёл в романы Я-рассказчика, как основу повествования, после него весь XXвек и весь модернизм занимался открытием, обнажение своих Я-героев.
Вообще тема моя изначально называлась «Литературный мир героев Достоевского» - ведь Достоевский был запойным читателем с детства, его сознание во многом сформировано книгами, и эти свои качества он передает своим героям, самым разным, причем их отзывы о литературе – есть суть их характеристики, иными словами, если кто из героев ругает Пушкина или Гоголя, боготворимых Достоевским, то это «плохой человек» и черта в его отрицательной характеристике.
Я начал составлять картотеки, сверять литературные высказывания героев с мыслями самого Достоевского по его письмам, дневникам, заметкам, но материала оказалось такое количество, что я начал сужаться, решил выбрать только героев-рассказчиков и в итоге написал тему по типологии рассказчика, а после издал в виде монографии.
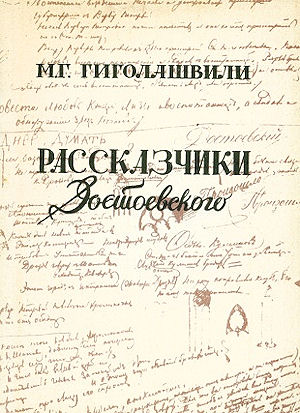
В этой книге были проанализированы образы рассказчиков, выделены их общие «родовые» типологические черты, которые все восходят к личности самого Достоевского: как к его внешним автобиографическим данным, так и внутреннему миру.
Типичный рассказчик дороманного творчества – это портрет молодого Достоевского, содержащий все основные черты судьбы и личности писателя. Почти в каждом рассказчике выделены черты молодости, сиротства, переезда из Москвы в Петербург, одиночества, бедности, незнатности (иногда – незаконнорожденности), лишенности общественного положения, мечтательности, наивности, честности, фланёрства, болезненности. Также все они лишены внешних данных и являются запойными читателями, чьи взгляды на литературу совпадают со взглядами самого молодого Достоевского.
Лет через пять, уже тут, в Германии, начал разрабатывать тему «Немцы у Достоевского» (а их много, почти в каждом произведении), что, собственно, понятно: русские немцы были частью царской России, на всех уровнях, от Дубельта и Бенкендорфа до ремесленников, зубных врачей, инженеров, чиновников.
Тема, как водится, стали разбухать, выросла до «Иностранцы в русской классике», я успел написать несколько статей на эту тему, опубликовал их в научных трудах Тбилисского и Ростовского университетов (сноска на Топос), но потом пришло время «Толмача», «Чертова Колеса», «Захвата…». В общем, Достоевский пока отдыхает.
- Кто из писателей, так сказать, оказал?
- Их много. Я родился в семье филологов, в доме была (и есть) огромная библиотека, в том числе вся мировая литература в переводах. Всё это я и начал грызть и точить с детства. Приоритетным всегда была русская классика (папа занимался Горьким и ХХ веком, мама – Буниным и А. Толстым). Так что меня сформировала в основном русская проза.
А из мировой классики — Ветхий завет, Экклезиаст, Эзоп, Аристофан, Боккаччо, Апулей, Эдгар По, Мопассан, Стендаль, Флобер, Камю, Хемингуэй, Маркес, Драйзер, Буковски, Генри Миллер, Сэлинджер, Макс Фриш, О'Генри, Кафка. Называю только самых главных.
- Вы участвуете и видите русскую литературу немного со стороны. Как считаете, что ей не хватает, а чего в ней присутствует с избытком?
- Дима, а как это – со стороны? Как «немного беременна»? Книги – они и есть книги, это самое важное, а всё, что вокруг – не важно. Впрочем, я даже рад, что не участвую в окололитературной грызне и всяких склоках и выяснениях отношений. Кстати уж вспомню слова Миши Шишкина, который как-то обронил: «Для того, чтобы писать по-русски, не обязательно жить в русском гетто»… К тому же со стороны многие вещи как-то виднее, выпуклее, объемнее видятся.
Что касается второго вопроса, то составить полное впечатление о литературном процессе можно только со временем. Но если говорить в целом, то, думаю, не хватает больших тем и вечных вопросов, на которые так богаты традиции русской классики. Они-то и делают её понятной и нужной всем жителям земли.
- Я имел в виду то, что вы хорошо знаете и другую литературную реальность – европейскую вообще и немецкую, которая вас непосредственно окружает, в частности.
Когда у меня выходили книжки на европейских языках и я участвовал в разных мероприятиях, организованных издательствами (фестивали, гастроли с чтениями, участия в ярмарках), меня удивлял минимум обязаловки, формализма, никому не нужных круглых столов на псевдоострые темы и искренняя заинтересованность в диалоге с сочинителями т.н. «простых читателей», которые посещают подобные встречи из чистого любопытства, при этом, не имея никакого отношения к литературе…
- Дима, должен вас огорчить – я совсем не знаю сегодняшнюю немецкую и европейскую литературную реальность по той причине, что, во-первых, переводных романов не читаю, во-вторых, ничего из моего не переведено, и поэтому я с этой стороной жизни не сталкивался.
Вот такая у меня судьба – на родине, в Грузии, меня знает очень ограниченный круг людей (кто еще читает - или дочитывает - по-русски), в Германии – вообще никто не знает, а там, где знают – там меня нет… «Чужой среди своих», как выразился один рецензент… Так что вы в этом вопросе куда более счастливы и компетентны, чем я.
- Кстати, есть ли, остались творческие связи с Грузией? Вы писали по-грузински и почему остановились на русском?
- Я ни строчки, никогда, ни на одном языке, кроме русского, не написал. Как вы понимаете, на русском может писать только тот, для кого русский – первый, главный, опорный и родной язык. А выбирать, «останавливаться»… Это невозможно, по моему убеждению. Я вообще мало верю в то, что человек может писать на разных языках. Серьезных примеров нет.
С Грузией остались контакты на уровне друзей, семьи, родственников, художников, знакомых поэтов, но когда 20 лет живешь за пределами страны, сохранять всё это очень непросто.
У меня, например, лежит дома 700-страничный перевод на грузинский язык моих ранних рассказов и повестей (сделанный талантливой переводчицей Мананой Лагидзе), но никто этим особо не заинтересовался.
Впрочем, я особо не развивал активность, чтобы найти издателя, вообще я в этом деле – очень слаб: написать роман могу, а вот пристроить его, раскручивать, пиарить и т.д. для меня это – тёмный лес.
Вполне могу себе представить, что человек, написавший «Чертово Колесо» где-нибудь в Дании, мог бы стать обеспеченным человеком, однако в России это совсем не так.
Вот я иногда думаю, что лучше бы я писал по-грузински: ведь быть писателем для шести миллионов куда почётнее (и, безусловно, «выгоднее» во всех смыслах), чем для ста сорока, тем более, что уже одна моя фамилия может вызывать отторжение у русского читателя, учитывая нынешнее невеселое положение вещей, при котором тупой болванкой из Кремля в мозги обывателей вколачивается миф о плохих злых грузинах и хороших добрых русских.
- Вы были готовы к такой реакции на «Чёртово колесо», которую можно было бы обозначить как «проснулся знаменитым»? Или изнутри история этой книги выглядит иначе?
- Нет, конечно, я ни к чему не был готов, а если и был готов – то только к худшему. Моя покойная мама вообще не хотела, чтобы я печатал этот текст, так как боялась, что меня обвинят в очернительстве или даже предательстве (к чему, впрочем, должны быть готовы все, кто говорит правду о жизни).
История романа достаточно извилистая и прерывистая. Вещь писалась в два приема, начал я её еще в Тбилиси, в конце 80-х (тогда, кстати, еще не было отечественных гангстерских романов, а литература в основном питалась открытиями запрещенных в советские времена текстов). Написал примерно половину текста.
Потом, в 91-м году, проездом через Москву на работу в Германию, я оставил рукопись моему другу, поэту Михаилу Синельникову, а он уже потом хлопотал и показывал её издателям, за что я ему очень благодарен.
Рукописью заинтересовались в издательстве «Сельская молодёжь» и издали её в 94 году, в приложении «Подвиг». Но тогда было не до литературы, её мало кто видел, она выглядела так:
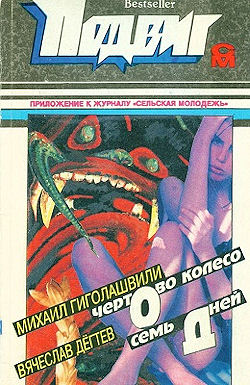
[Кстати, этот вариант хотела перевести на немецкий язык известная переводчица Светлана Гаер, мы даже уже начали с ней консультации, она жила во Фрайбурге, но она была в летах и вся эта затея не осуществилась по причине её смерти].
Лет через десять, находясь после «Толмача» в «чёрной дыре» (о которой известно всем, кто закончил большую работу и, опустошенный и лишенный привычного дела, мыкается по людям и по жизни), я решил дописать роман до конца. На это понадобилось года два.
Делать это было тоже нелегко: надо было сажать себя в рамки того стиля, лексики, манеры письма, которые уже были заявлены в первой части, почти двадцать лет назад, хотя я сам за это время изменился и сейчас многое писал-написал бы по-другому, но делать было нечего – приходилось подстраиваться под себя-тогдашнего.
Затем еще года два я пытался его издать, но получал отказы: то им казалось, что это неактуально, то – тема опасная, то ещё что-то – пока, наконец, с помощью глубоко чтимой мною Дины Рубинной, замечательного писателя и прекрасного человека, рукопись не дошла до Михаила Котомина и Александра Иванова (издательство «Ад Маргинем»), которые и рискнули напечатать её в 2009 году, за что я им очень благодарен.
Что касается структуры романа, то вначале была написана вставная повесть-новелла о бесе и отшельнике. Вообще вначале я хотел написать только такую волшебную повесть, но потом увидел, что без мяса современности не обойтись.
А идея этой вставной повести родилась в горах Кавказа, куда меня (и еще нескольких наших друзей) взял на две недели мой друг, Александр Фридкин (ныне живущий в Чикаго), который регулярно ходил в горы, чтобы совершать там различные практики, ведущие как к очищению личности, так и к расширению сознания.
Мы запаслись продуктами, палатками, наняли грузовик, который довёз нас до того места, докуда доходила дорога, а там пошли дальше своим ходом до заветной поляны, где и провели две недели в совершенно фантастическом мире…
[Горы Кавказа – древнее, особое, сакральное место, с ним связано многое в истории человечества (в том числе и становление русской литературы: Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, весь русский романтизм, да и реализм (Толстой).
Но, вместе с тем, место это чрезвычайно опасное для тех, кто приходит туда с недобрыми намерениями, и шутить с этим местом никому не советую, а тем более являться туда с огнём и мечом, чтоб от этого меча не погибнуть, что бывало множество раз в многострадальной истории этого региона, на который зарились уже греки, римляне, парфяне, византийцы, персы и все другие владыки мира, исходя из тезиса: «кто владеет Кавказом – владеет миром»].
После этой поездки я написал эту новеллу-сказку, а потом начал наращивать на этот скелет современный сюжет и героев.
Кстати, у меня есть несколько вариантов этой новеллы: в полном варианте, например, бес и отшельник встречаются, реинкарнированные, через шесть веков, причем бес пошел в своих перевоплощениях вверх и превратился в святого Давида (одного из основателей грузинской церкви), а отшельник пошёл вниз и превратился в дракона, которого и поражает святой Давид).
Есть у меня даже вариант этой сказки, написанной от первого лица - от лица беса, что уже, конечно, было наглостью с моей стороны, поэтому этот вариант никто не видел и он тихо дремлет в своем файле в папке «Материалы»…
Такова история этого романа, который, несомненно, занял значительный кусок моей жизни.
Художественные работы Михаила Гиголошвили:

Царь

Рыцарь

Фарисеи

Писатель

Опиум
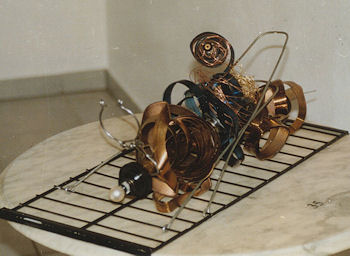
Опричник
(Окончание следует)
Последние публикации:
Заливной язык –
(28/06/2012)
"Случай Наймана". Зачем стихам нужны незакавыченные цитаты? –
(27/06/2012)
Каллима. За облаками –
(22/06/2012)
Аркадий Ипполитов: «Я не шёл по следу Муратова» –
(19/06/2012)
Концерт российской государственности –
(18/06/2012)
Щит Персея. Интервью Льва Лосева 2007 года (3) –
(17/06/2012)
Как непрозрачное победило –
(15/06/2012)
Детки в клетке –
(15/06/2012)
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

