Дверь, закрытая изнутри.
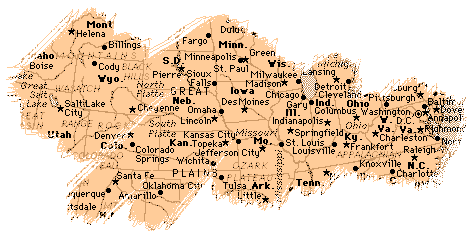
Весь сентябрь и пол-октября стояла жара, а после Покрова захолодало, и я стал собираться в путешествие по Америке. Я мог выбрать любые семь американских городов за исключением Гавайских островов и Гонолулу. Если бы не этот запрет, я и думать не стал бы ни о каких Гавайях, но теперь, сидя над картой Америки в размышлениях, как бы поразумнее распорядиться временем и средствами, нет-нет да скашивал глаз
влево, туда, где далеко от побережья Калифорнии находился запретный
Архипелаг. С детства я любил путешествовать по картам, а тут, имея
возможность придумать маршрут и весь его пролететь, проехать, пройти,
и вовсе потерял голову. Больше всего мне мечталось попасть на Аляску,
но это выходило слишком дорого. Хотелось еще в Новый Орлеан и Сан-Диего, в Аризону и Колорадо, в Сиэтл и в Орегон, где жили русские старообрядцы, в Йеллоустоунский национальный парк с его гейзерами, но в
конце концов я улетел в Сан-Франциско с тем, чтобы потом перебраться
на восточное побережье.
Улетали мы небольшой группой: три венгра, несколько латиноамериканок, вьетнамка и важная добрая и толстая негритянка Лулу из Мозамбика - самая пожилая писательница, участница всевозможных женских форумов и движений - улетали из того маленького аэропорта, где я приземлился два месяца назад. Прямые рейсы отсюда были только в два больших
города - Чикаго и Сент-Луис, а уже оттуда по всей стране. Мы летели в
Чикаго, радостные, возбужденные, как успешно сдавшие экзамены и отпущенные на волю с аттестатами зрелости бакалавры. Самым счастливым, вероятно, был словак и, когда на досмотре ручного багаже симпатичная девица в униформе деликатно осматривала наши сумки, наголо остриженный
Петруша схохмил что-то насчет бомбы. Хорошенькая служащая побагровела
и ледяным тоном сказала шутнику, что так и быть прощает его, но в чикагском аэропорту O'Hara с него взяли бы штраф в триста долларов. Опозоренный перед своими земляками юный буддист густо покраснел и всю дорогу молчал, хотя сердечные и души не чаявшие в нем латиноамериканки и
пытались его утешить на своем несмелом английском языке.
Из Чикаго поэтессы полетели на юг в так и не увиденный мною Новый
Орлеан, венгерские венгры в Нью-Йорк, где намеревались просидеть две
недели у своих знакомых, а мы с венгром словацким двинулись в Калифорнию. Снова была подо мною земля, но не обжитого Среднего Запада, а совершенно пустая, необжитая Запада Дальнего. Несколько часов тянулась
унылая без признаков растительности и следов человеческой деятельности
незаселенная равнина, освещенная неподвижным солнцем, пересеченная
ровными автомобильными дорогами и редкими городками на них. Должно
быть, тосклива была жизнь в этих Богом забытым захолустных американских громадных штатах с нарезанными ножом границами - Небраске, обеих
Дакотах, Вайоминге и Юте, в однообразных городах с главной улицей,
банком, двумя ресторанами и баром. И чтобы не навевать на пассажиров
TWA печальные мысли, на экранах небольших телевизоров, висевших над
рядами кресел, показывали смешной фильм и единственный раз за все время моих частых полетов над Америкой бесплатно разносили пиво. Через
четыре часа на горизонте появились горы, за ними слепящая линия океана, дома, дороги и самолет пошел на посадку.
Встречал меня в аэропорту чудесный человек, бывший петербуржец,
фотограф Михаил Лемке, который приятельствовал в свое время с тем из
Стругацких, который жил в Питере, а здесь, в Америке, водился с Бродским. Он повозил меня на машине по городу, показал любимую скалу поэта
на берегу Тихого океана, Золотые ворота и исторический угол двух невзрачных улиц, где зародилось движение хиппи, поведал о том, как уже
много лет борется за охрану общественной нравственности и недопущение
новых секс-шопов в океанском городе, кошмарными словами покрыл милейшего Бориса Николаевича Ельцина, но будучи более последовательным человеком, нежели ойохский профессор, защитил Зюганова, так что лишь широта политических воззрений удержала меня от оправдания нашей юной демократии.
Я поселился в небольшой гостинице "Карл" под горой Твин-Пикс в
уютном номере с балкончиком, выходившим на южную часть города. Стоило
это не слишком дешево, но денег было не жаль - я как умел оторвался и
тихо и скромно загулял. После однообразных и пресных ойохских будней
Сан-Франциско был моим разговеньем. Утром я завтракал в кафе булкой с
клюквой и выпивал кружку кофе, выкуривал сигарету, глядя на спешащих
мимо людей, а потом уходил гулять по городу, поднимался на гору, рассеянно бродил по паркам и вдоль холодного океана, где никто не купался
и только похожие на космических пришельцев люди в черных водоотталкивающих костюмах взбирались на волны и съезжали вниз на огромных досках.
Долгие часы я просиживал на набережной, любовался знаменитыми
мостами, посещал музеи, катался на трамвайчике и, стоя на подножке,
снимал на камеру горбатые улицы, а потом еще полночи медитировал на
Русском холме - так называлась одна из городских возвышенностей в
центре Сан-Франциско со старыми домами, лестницами, садами, цветниками, скамейками и беседками. Я смотрел на залитый мерцающими огнями город, как смотрел когда-то очень давно на Москву, Питер, Львов, Киев и
Тбилиси. Все завораживало меня, томило душу, казалось сказочным, необыкновенным. Мне чудилось, что я не нахожусь здесь целиком, а только
смотрю удивительный фильм, в котором переданы без всякой потери и звуки, и краски, и расстояния, и голоса.
 С а н - Ф р а н ц и с к о |
Я никого не знал в этом городе, но однажды меня пригласил к себе
Ночью профессор с женой провожали меня на железнодорожную станцию. Вдоль побережья ходила двухэтажная чистая электричка, и полустанок с переездом, редкими поздними пассажирами и ночными огнями остро |
И не только пожилые. У меня в номере убирала молодая миловидная
женщина. Она совсем недавно приехала с семьей с Украины. То ли ей было
неловко убирать в комнате у русского постояльца, то ли просто по характеру была очень скромной, но разговаривала она со мной одновременно
смущенно и торопливо, мешая по принятой здесь и невыносимой для уха
привычке русские, украинские и английские слова.
- Вы просто подивитися приихали? А что здесь интересного? Стриты
и эвенью. Эти вдоль идут, а те поперек. Ну еще парков богато. В парках
бъютифул. Хозяин? Он добрый дюже, тут ведь работу найти нелегко. Все
так экспенсив. Мы сами беженцы.
- От кого ж вы бежали?
- Да не, це тильки так кажут, що беженцы...
Тут она подняла на меня глаза, как будто поняла, что сказала лишнее и, заискивающе улыбнувшись полупрофессиональной улыбкой, какой
должна улыбаться служащая постояльцам, вышла из комнаты.
А мне нравилось ходить наугад по этим стритам и паркам. Особенно
хорош был японский садик в одном из них - с ручейками, прудами, золотыми рыбками, маленькими водопадами, зарослями бамбука, скульптурными
изображениями Будды и пагодой. Бродя по нему, я думал, что хотел бы
побывать во всамделишной Японии, но будет ли этим мечтам суждено исполниться? Пока что меня ждали иные встречи.
Однажды в жилом квартале недалеко от парка, где располагался этот
садик, я увидел вывеску на русском языке - Церковь адвентистов седьмого дня. На стене висела табличка с расписанием и бросающейся в глаза
надписью: Сервис на русском языке.
Бог знает, что меня толкнуло сунуться в дверь - удивление, любопытство, азарт - я искал в Америке не Америки, но России, и каждое
слово на родном, пусть даже исковерканном языке было мне дорого.
Оказался я в довольно просторной зале с голыми стенами, чем-то
напоминавшей физкультурный зал. Людей не было, должно быть сервис уже
закончился, я готов был повернуться и уйти, как вдруг откуда-то сверху
раздались голоса.
- Кто там? Who's there?
- Я на минутку, - сказал я быстро.
- Нет, нет, - обрадовались наверху, - идите сюда, к нам, - и
стремительно перебирая ногами, точно крутя педалями, по крутой узкой
лестнице спустился худощавый черноволосый человек с беспокойными глазами, а следом за ним еще несколько мужчин и женщин.
Я почувствовал себя, как окруженный гестаповцами несчастный профессор Плейшнер, но вместо того чтобы удрать, покорно поплелся к их
столу. Ничего страшного адвентисты из себя не представляли. Они радушно угощали меня салатами и соками, довольно скоро оставив попытки переманить негаданно завернувшего соотечественника в свою веру и бросив
ругать православных священников - пьяниц и табашников, от которых во
время службы несет перегаром. Жаловались на американских собратьев,
которые не дают им ходу, да и вообще на Америку с ее чудовищной едой,
нравами, образом жизни и засильем сионистов. Собственно настоящим
убежденным адвентистом и диетологом был лишь один их них, бывший спортивный врач, среди адвентистов вообще много врачей - остальные приходили от скуки, коротая под разговоры о воскресении тел и погибели душ
время или пытаясь извлечь материальную выгоду. Особенно странной и чужеродной в этой компании смотрелась старушка из харбинской эмиграции,
которую приводила сюда немолодая дочь. Уже совсем дряхлая, с отсутствующим взглядом, вряд ли старуха представляла, где находится, что с
ней происходит и кто эти говорящие на русском языке люди. Изможденное,
морщинистое лицо ее, какие редко бывают у ухоженных пожилых американок, наталкивало на мысль о невероятной долготе и переменчивости человеческой жизни - родиться в России, жить в Китае, скитаться по Америке
и умереть в Сан-Франциско в окружении адвентистов...
На прощание вождь вспомнил о своем назначении везде и всюду проповедать веру и стал грозить концом света, приглашал заходить еще и
давал какой-то московский адрес у кольцевой дороги, но тут уж я набрался твердости и сказал, что никогда более к адвентистам не приду и,
выйдя на улицу с удовольствием выкурил сигарету и выпил пива, лениво
глядя на американского придурка в майке GOD FEAR, который собрал вокруг себя толпу зевак и судя по всему толкал схожие речи. Но людям не
было до него дела, праздный город гулял, шумел, катался на трамвае по
крутым горкам, наслаждался нежарким солнцем, свежим ветром и чистым
небом, и трудно было выдумать менее подходящее на Земле место для апокалипсических пророчеств, чем этот парадиз.
В Сан-Франциско со мною вообще происходили странные и даже нелепые вещи. Как и в моем ойохском общежитии, ванная с туалетом в гостинице была одновременно рассчитана на два гостиничных покоя и из комнаты дверь закрывалась легким нажатием дверной ручки, так чтобы человек
из другого номера не мог попасть через ванную в мой, а я в его. Все
это было теоретически очень разумно, но не для рассеянного русского
путешественника. Однажды я углубил дверную ручку, вошел внутрь и хлопнул за собой дверью, а выбраться назад не смог. Дверь в комнату оказалась запертой снаружи - я сам себя арестовал. Сколько я ни толкал ее,
все было без толку. Я стал стучать, но кто мог меня услышать? В соседней комнате не было никого, за одной стеной была улица, за другой -
тишина. Я колотился в эти двери, стучал в пол и потолок, но тщетно.
Ладно б я просто крал у себя время, но в этот час у меня была назначена встреча, время шло, а я сидел в ванной комнате и не знал, что делать - смеяться, плакать, тупо ждать. Устав ждать, начинал стучать и
кричать, сначала несмело, а потом во все горло, до хрипоты - хэлп,
хэлп! - да помогите же, черт возьми, кто-нибудь. Но тишина была мне в
ответ...
Только через два часа в коридоре раздались испуганные шаги, и в
номер влетел перепуганный хозяин гостиницы, улыбчивый, черноволосый
сириец.
- Извините, извините меня. Мне так жаль, - говорил он прижимая к
груди руки и кланяясь.
Я имел достаточно оснований, чтобы устроить скандал, но мне было
не по себе от того, что я оказался в таком глупом положении, хотелось,
чтобы он поскорее свалил, а сириец продолжал прикладывать к груди руки
и сокрушаться. Не хотелось ни ругаться на него, ни грозить судом хотя
бы за то, что он оказался добр к русской беженке, убиравшей в его отеле.
 А л ь к а т р а с |
А встреча, на которую я опоздал и постеснялся объяснить хозяйке |
В ту пору я не читал, да тогда еще и не была написана американская часть воспоминаний Солженицына, где он довольно резко написал об
Ольге Карлайл, которая вместе с мужем переводила "
ГУЛАГ" и была его
литературным агентом. Но, как и прежде, меня обожгла обнаженная, невидимая мною прежде драма человеческих отношений. Конечно, здесь все было неизмеримо острее, глубже и связано с именем известного миру человека, но это не меняло сути, и мне казалось, что в основе ее лежало то же столкновение русской души с западным миром. Не то что бы Карлайл отзывалась о Солженицыне дурно или раздраженно, скорее в ее рассказе ощущалась усталость и обида на то, что она и ее муж столько для него сделали, а он оказался таким неблагодарным, и им пришлось из-за него
покинуть Массачусетс и уехать в Калифорнию. Она говорила, что об этом
напишет и скоро весь мир узнает о Солженицыне правду. Мне так и не попалась ее уже написанная книга, не знаю я и ничего о другой, новой,
которую она упоминала в разговоре со мною, но когда мы прощались, мне
показалось, что Ольга Карлайл была похожа на самого обыкновенного человека, который пострадал от соприкосновения с кем-то по-настоящему
великим, выходящим за рамки обыденных людских мерок и представлений,
что интуитивно я чувствовал и сам, когда читал солженицынские книги, а
особенно "Бодался теленок с дубом". Она и жалела, и гордилась, и досадовала на то, что была с ним знакома - этот человек вторгся и переменил ее жизнь, как переменил он судьбы очень многих людей по всему миру, словно была дана ему особенная власть. Правда, позднее когда я
впервые увидел Солженицына и недолго с ним поговорил, более всего он
тронул меня обыкновенным человеческим обаянием и вниманием...
Было в городе и несколько православных храмов. Часть из них принадлежала Зарубежной Церкви, а другая Московской патриархии. Я попал к
зарубежникам в маленький Успенский храм, на который наткнулся совершенно случайно, бродя по городу. Он стоял среди неброских двухэтажных
домов на тихой зеленой улице, и оттого улица эта казалась расположенной не в Сан-Франциско, а где-нибудь в Белеве. Был вечер субботы, всенощная, народу в храме оказалось совсем немного, и в этом малолюдии,
где каждый открыт взору, я чувствовал себя неуютно, не вполне понимая,
канонично или нет мое здесь присутствие и не совершу ли я прегрешение,
если подойду к помазанию и получу благословения у священника.
После службы я все же разговорился и с батюшкой, и с одним из
прихожан. Иерей с худым изможденным простонародным лицом и густой бородой был из второй волны эмиграции, и глубокие глаза его смотрели так
настороженно, как если б давний ожог по-прежнему его мучил и заставлял
по-мужицки недоверчиво относиться ко всем, кто приехал оттуда и видеть
в них тайных агентов. Другой же мой соотечественник родился в Южной
Америке, где жили после революции его родители, и выглядел гораздо
спокойнее. Много лет он проработал в одной из американских авиакомпаний, а недавно вышел на пенсию и стал церковным старостой в этом храме. Из недолгого разговора с ними я заключил, что православные в Америке ощущают себя как в осажденной крепости. Они резко не принимали
того, что происходит в этой стране, были по-прежнему категорично настроены против московской патриархии за то, что наша Церковь отказывается приносить покаяние за сотрудничество с коммунистами и не причисляет
к лику святых последнего императора и его семью. Когда же я сказал,
что должно быть прихожан Зарубежной Церкви осталось очень мало, они
посоветовали мне пойти утром на воскресную литургию в кафедральный собор.
Пятиглавый, не слишком красивый снаружи и очень богато украшенный
внутри собор, построенный в пятидесятые годы, оказался полон молящимися. Они все прибывали и прибывали, заполняя внутреннее пространство.
Замечательно пел хор, громко возглашал слова немного непривычной ектеньи голосистый дьякон. После литургии состоялось венчание молодой
пары, на которое должно быть съехался весь русский Сан-Франциско, и
длинный шлейф невесты поддерживали белоголовые маленькие детки. Другие, постарше, в красных сарафанах и вышитых рубашках стояли рядом с
корзинками, наполненными хмелем. Мужчины были одеты в костюмы, дамы
щеголяли нарядами сообразно возрасту и положению. Романтическими очами
я глядел на лица эмигрантов первой и второй волны и их потомков, на их
обыденную и праздничную жизнь; они казались мне все невероятно благородными, полными собственного достоинства, и я думал о том, что это и
есть подлинная, мне неведомая, украденная у меня Россия, связанная с
самыми дорогими для меня именами. Мне хотелось разговориться с кем-нибудь из них, узнать, как они живут, но я стеснялся, да и не был уверен, что им интересен. Я испытывал гордость за этих прекрасных людей,
державшихся с великолепным достоинством, и все же что-то странно замкнутое и неуловимо высокомерное, не располагающее к общению почудилось мне в этом мире.
После венчания большинство прихожан отправились в столовую, которая находилась рядом с храмом. Пришел старенький настоятель, очень известный и уважаемый в Зарубежной Церкви владыка, и после его благословения началась трапеза. За несколько долларов можно было купить тарелку борща или солянки, и выпить водки. Доллары они называли рублями,
при храме имелась гимназия, висели фотографии ее учащихся и наставников, расписание уроков - ни дать ни взять музей дореволюционной истории. Казалось, внешне все признаки старинного благочестия были соблюдены, только имело ли это отношение к живой, истерзанной России?
Они жили так, будто бы ни России, ни ее культуры, ни моих детей,
жены, друзей, всего того, что было мне дорого, просто не существовало,
все оказалось погребенным под страшным взрывом сродни чернобыльскому и
чудом уцелевший, неведомо как и в какой роли попавший в их чистый,
непричастный к заразе храм, я излучал радиацию, и ушел со странным
чувством обиды не обиды, но опустошенности.
Продолжение следует
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

