Цивилизация и культура
(Из книги «Парадоксы одномерного существования. Христианство и цивилизация»)
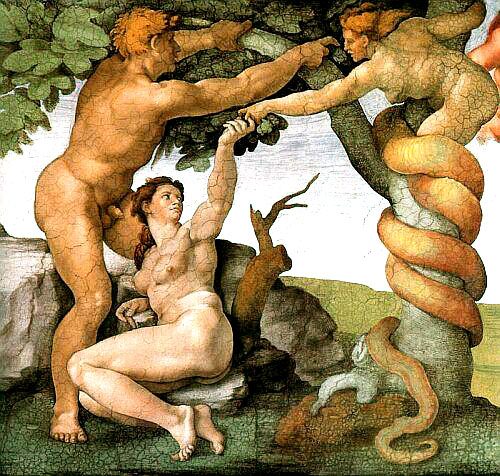
Очевидно, что основные формы человеческой деятельности должны определяться характером человеческого естества. При этом нужно признать, что природа человека имеет двуединый характер, поскольку, во-первых, человек есть существо ограниченное, следовательно, детерминированное внешними условиями своего существования. В то же время, во-вторых, очевидно также, что человек стремится преодолеть границы своей детерминированности, о чём неоспоримо свидетельствует цивилизационный процесс. Налицо антиномизм человеческого существования: с одной стороны, потенциально безграничные запросы человеческого духа как субъекта свободной воли, с другой – крайняя ограниченность в возможностях их реализации; на одном полюсе – внутренняя, субъективная, безусловная уверенность в том, что жизнь человека должна превышать границы его природной и социальной обусловленности, на другом – фактическая достоверность того, что человек есть существо ограниченное, следовательно, нуждающееся.
На эту двойственность человеческой природы обратили внимание философы-экзистенциалисты, открыв проблему заброшенности человека в этот мир, раздвоенности, разорванности, неорганичности человека. «Источник страдания, – пишет Бердяев, – нужно видеть в несоответствии природы человека и объектной мировой среды, в которую мы брошены, в неустанном столкновении “я” с чуждым и безучастным к нему “не-я”…».
Значение философии И. Канта, помимо всего прочего, заключалось в том, что он открыл западному миру то, что уже было известно до него православной патристике: мир не однороден с точки зрения законов логики, но двупланен. Каждой из этих частей мира соответствует своя философия: миру феноменальному – теоретическая философия, миру ноуменальному – практическая (нравственная) философия.
Человек, с точки зрения Канта, оказывается жителем двух миров: мира феноменальной необходимости и мира ноуменальной свободы. Иными словами, он одновременно свободен и не свободен. По сути, после Канта более уже не было никакой возможности говорить о едином мире, об органической взаимосвязи двух планов бытия. Утверждение, согласно которому сущее само по себе не тождественно человеческому мышлению, сыграло роль смертного приговора для рационалистической западноевропейской метафизики. Лишь человек, являющийся точкой интеграции двух миров, оказывается посредствующим звеном между ноуменальным и феноменальным бытием. В этом заключается нравственное достоинство, но в то же время и особенный трагизм человеческого существования, проистекающий из неразрешимого противоречия между стремлением к личному счастью и нравственным долгом человека, выносящим свои постановления в форме категорического императива.
Как отмечает Бердяев, дуализм, в котором живёт человек в этом мире, есть источник неисчислимых страданий: «Мучительное, причиняющее страдание противоречие человека заключается в том, что он есть существо в нераскрытой глубине своей бесконечное и устремлённое к бесконечному, существо, ищущее вечности и предназначенное к ней и вместе с тем, по условиям своего существования, конечное и ограниченное, временное и смертное».
Бердяев вслед за Кантом исходит из различения сущности и явления, но полагает, что природа этих различий не гносеологическая, а онтологическая. Такое различие коренится не в субъекте познания, как полагал Кант, а в самом бытии, считает Бердяев. В самом бытии содержится дефект, который не позволяет нам мыслить вещи такими, какие они есть на самом деле. Бытие болезненно и греховно, в силу чего и природа человека находится в крайне болезненном состоянии. Проявлением этой болезненности является действие в мире объективной необходимости, которая сковывает природу человека, его творческие потенции. Более того, мир внешних по отношению к человеку объектов не ограничивается лишь природными объектами, находящимися пространственно вне его. В самом человеке есть нечто чуждое ему самому. И. Кант, возражая декартовскому cogito, утверждал, что в самопознании человек предстаёт самому себе, как явление, но не вещь сама по себе, и лишь со стороны свободы и нравственного начала внутри человека (что для Канта, по сути, одно и то же) человек есть ноумен.
Апостол Павел говорит о дисгармоническом состоянии человеческой природы так: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих… Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха».
Таким образом, человек представляет собой двуединое существо – материальное и духовное одновременно. Каждая из этих сторон человеческой природы требует своего обособления и абсолютизации, стремится стать всем, составлять полную природу человека, т.е. претендует на то, что не принадлежит ей по праву. Так материальная (т.е. пассивная, причина человеческой ограниченности) и духовная (т.е. творческая, активная) стороны человеческого естества существуют в состоянии взаимного отрицания. Из этого следует, что любые попытки их гармонизации, приведения в порядок соотносительного взаимодействия неизбежно будут носить односторонний характер, что и являют собой на деле исторические формы идеализма и материализма, продемонстрировавшие свою несостоятельность в качестве всеобъемлющих теоретических систем.
В этом смысле история человеческой культуры представляет богатый материал, на примере которого мы можем наблюдать попеременное преобладание одного такого начала над другим, что порождало различного рода формулы пантеистического монизма – идеалистического или материалистического. Монистический взгляд на мир и на человека, неизменно господствующий в западноевропейской культуре, заставляет предполагать, что две эти составляющие находятся между собой в отношениях иерархической соподчинённости: какое-то из этих начал является первичным, другое – вторичным.
Бесспорно, что такое решение в значительной степени снимает остроту проблемы, поскольку подобное представление о человеке, отталкиваясь от двух составляющих его природы, отвергает их принципиальный дуализм, в результате чего человек предстаёт как существо гармоничное и сбалансированное. Однако уже тот факт, что западная мысль на протяжении своей долгой истории не могла прийти к единому мнению о том, какое из этих начал является первичным, а какое вторичным (материализм и идеализм), косвенно свидетельствует в пользу невозможности придать этим двум составляющим хоть какое-либо подобие гармонических отношений.
Преобладание одного такого начала над другим мы можем наблюдать, в частности, в тех концепциях человеческой этики, которые устанавливают значение и генезис нравственного начала путём индукции непосредственно из эмпирии жизни, утверждая, что нравственное состояние человека прямо зависит от внешних, более или менее благополучных условий окружающей человека среды. Из этого следует: для того, чтобы изменить человека к лучшему, надо в первую очередь изменить условия его существования, тогда и сам человек неизбежно, как по волшебству, станет чище и нравственно благороднее. «Я совершенно убеждён, что человек живёт хлебом единым только в условиях, когда хлеба нет, – пишет А. Маслоу. – Но что случается с человеческими стремлениями, когда хлеба вдоволь и желудок всегда полон? Появляются более высокие потребности, и именно они, а не физиологический голод, управляют нашим организмом. По мере удовлетворения одних потребностей возникают другие, всё более и более высокие. Так постепенно, шаг за шагом человек приходит к потребности в саморазвитии – наивысшей из них». Само собой разумеется, что вышеупомянутый взгляд на природу нравственности исходит из таких философских предпосылок, которые не оставляют и следа от человеческой самостоятельности, представляя человека исключительно продуктом среды, из чего должно заключить, что его следует сначала накормить и лишь затем спрашивать с него добродетели.
Экономическая составляющая бытия здесь становится всем, распространяясь на то, что не принадлежит ей по праву, в результате чего идеальная образующая человеческого естества начинает носить статус иллюзорной надстройки, побочного продукта экономических отношений. Мы можем наблюдать здесь очередную попытку гармонизации двух вышеупомянутых сторон человеческой природы. Однако, как показывает сама жизнь, такие усилия на деле оборачиваются не утверждением высшей нравственности, но, напротив, полным нравственным релятивизмом, оправданием всевозможного зла и насилия над человеком, равнодушием и невниманием к правде как высшему духовному благу человека.
Из утверждения о двуединстве человеческой природы должен следовать вывод и о двуедином характере человеческой деятельности. Поскольку человек есть существо ограниченное и нуждающееся, деятельность его приобретает характер приспособительный: человек неизбежно должен адаптироваться к окружающей среде, чтобы выжить. В этом процессе отражается материальная, пассивная сторона человеческой природы (человек как субъект политических и экономических отношений). С другой стороны, человек есть существо духовное. Сообразно духовным законам человеческой природы деятельность его приобретает творческий, активный характер, цель которой заключается не в приспособлении, а в преобразовании окружающей действительности.
Эти два рода деятельности тесно переплетены друг с другом так, что бывает очень трудно отделить одно от другого, что не раз порождало различного рода недоразумения и кривотолки. Так, в сфере культуры, например, достаточно распространено ложное мнение о том, что т.н. "попса" (т.е. определённый род субкультуры, рассчитанный на массовое восприятие и связанный с огромными финансовыми потоками, ради которых, собственно говоря, это всё и создаётся) представляет собой специфический вид искусства, тогда как на самом деле изначальная установка на денежную прибыль позволяет отнести этот род занятий, скорее, к особого рода экономической деятельности – тому, что сегодня принято называть "бизнесом". В результате такой подмены понятий человек вместо подлинного искусства получает некий суррогат, не дающий пищи ни уму, ни духу, т.е. камень вместо хлеба.
В более обобщённой форме на необходимость подобной дифференциации человеческой деятельности указали всё те же экзистенциалисты, пытавшиеся провести грань между цивилизацией и культурой, осмысляя это противопоставление в антитезах смерти и жизни, неподвижности и развития. Несмотря на то что такое противопоставление далеко не во всех смыслах является верным, поскольку нельзя же отказать и цивилизации в попытке преобразовать окружающую действительность, невозможно не согласиться с общим ходом мысли этих философов. Нет сомнения, что современная цивилизация являет нам образец того, каким будет человек и его деятельность в том случае, если верх возьмёт начало материальное, т.е. пассивное, актуализирующее и поставляющее на первый план процессы адаптирования в окружающей среде, носящие утилитарно-прагматический характер и, если и содержащие в себе элементы активного преобразования, то только потому, что человеку как субъекту свободы присуще также и начало творческое, однако в данном случае проявляющее себя как бы исподволь, как нечто подчиненное и вторичное в силу того, что конечные цели и задачи в этом процессе определяются началом пассивно-материальным. Всё подчиняется экономической сфере, и даже искусство, которое, казалось бы, не имеет никакого отношения к экономике, превращается в ремесло, способ наживы, постыдный и не приемлемый в том виде, в котором он нам преподносится. Современная цивилизация, поставленная на потребу массовому человеку, буквально пронизана этими лживыми, обманчивыми формами, прямо противоположными человеку как творческому субъекту и его нравственному достоинству.
Что же, в таком случае, представляет собой культура в её подлинном обличии, что скрывается под этим общим, родовым наименованием? Если согласиться с тем, что культура – это нечто большее, чем просто побочный продукт адаптации в окружающей среде (что очевидно), то в таком случае следует признать и то, что зарождение и развитие культуры связано, в первую очередь, с тем, что в каком-то смысле имманентно самому человеку, с активным началом внутри человека, одним словом, – с человеком как субъектом воли, чувства и разума. Это означает, что наука, искусство и религия – три модуса человеческой культуры, ветви одного и того же дерева, по словам Эйнштейна, – призваны удовлетворять специфические потребности единого человеческого духа, под разными углами зрения рассматриваемого, которые не зависят от внешних, преходящих условий человеческого существования: философия и наука – познавательные, искусство – эстетические, религия, стало быть, – нравственные потребности[1].
На это можно, как кажется, резонно возразить, ссылаясь на некоторые, весьма влиятельные направления современной мысли, что кроме эмпирически воспринимаемой, т.е. феноменальной, стороны действительности, которая обуславливается формами нашего чувственного восприятия, однако воспринимается нами как нечто чуждое и независимое от нас, нам ничего не дано. И что якобы всё содержание нашего сознания мы черпаем из этой окружающей и определяющей нас реальности, следовательно, выйти за рамки данного не было и нет никакой возможности, поэтому и ответ на интересующий нас вопрос следует искать в границах этой относительной, вещественной реальности. Согласиться с этим утверждением было бы равносильно тому, если бы мы сказали, что ни философии, ни религии, ни искусства никогда не было и в принципе быть не может, т.е. означало бы отрицать то, что отрицать невозможно в силу фактической достоверности таковых. При таком воззрении исключается сама возможность свободного творчества, поскольку деятельность, направленная на преобразование наличной действительности, в качестве предмета необходимо подразумевает некий идеальный образец, в сравнении с которым последняя не выдерживает никакой критики, что и вызывает у человека потребность в её преобразовании, т.е. деятельности, единственным источником которой является сам человек как субъект свободы.
Что же является действительным предметом подобного рода деятельности и при каких условиях она возможна? Punctum controversiue состоит в следующем: возможен ли такой предмет, который, обусловливая нашу волю, в то же время оставлял бы за человеком не просто возможность выбора между тем или другим эмпирическим мотивом, но предусматривал бы внесение нового содержания, чего-то третьего, что не было дано эмпирически изначально. Иными словами, речь должна идти о возможности не столько количественного перераспределения, сколько качественного преобразования элементов окружающей действительности. Следовательно, мы должны говорить о таком предмете, который превышал бы границы эмпирически данного. А так как, кроме объекта (эмпирической действительности) и субъекта (самого человека), нам ничего не дано, остаётся предположить, что предмет этот в значительной степени должен определяться самим субъектом, точнее – характером его духовных потребностей, должен быть сродни им. Другими словами, внутренние, субъективные основания к действию должны определять, таким образом, и предмет действия. Так, например, нет сомнения в том, что человеку присущи эстетические потребности, следовательно, предметом художественной деятельности должно быть нечто эстетическое, причём эстетическое, возведённое в превосходную степень, в сравнении с которым красота природы, например, является лишь слабой тенью осуществимого ещё только в возможности. Очевидно, что актуальная, объективная сторона действительности может выступать здесь лишь в качестве начального субстрата, материальной основы подобного рода деятельности, а в качестве предмета – лишь нечто идеальное, в каком-то смысле имманентное самому человеку, о чём свидетельствует также идеальность продуктов культурной деятельности, практическая бесполезность таковых.
Рассмотрим этот вопрос на примере нравственном. Такие концепции человеческой этики, как гедонизм, эгоизм, эвдемонизм и утилитаризм, роднит одно общее, присущее им всем качество – апостериорное, опосредованное определение высшего принципа нравственности. Все вышеперечисленные типы этики, не определяя значение нравственного принципа как такового, полагают его в различных областях эмпирической действительности, сводя всё его значение или к личной материальной пользе и выгоде, или к счастью, или к удовольствию и т.п. Иными словами, помещают предмет нравственной деятельности человека в область, чуждую самому человеку, оставляя в стороне вопрос о специфике морали как неотъемлемого качества человеческого духа. Признать же за человеком статус субъекта свободной воли, а без этого признания невозможно и оправдание культуры как высшей духовной деятельности человека, возможно лишь в том случае, если согласиться с тем, что человек в состоянии возвышаться над миром, действовать не только в соответствии с эмпирически данными, внешними по отношении к нему обстоятельствами, но так же и сообразно внутренним, априорно присущим человеку представлением о благе, или правде, в согласии с которым человек в состоянии не только пассивно подчиняться обстоятельствам, но и преобразовывать их, а там, где нужно, там, где обстоятельства противоречат правде, открыто противопоставить свою собственную волю велению этих обстоятельств.
Нет сомнения в том, что удовлетворение высших запросов человеческого духа предполагает и удовлетворение элементарных человеческих потребностей в пище, одежде, жилье и т.п., что составляет необходимую основу человеческой жизнедеятельности. Из этого очень часто делается ложный вывод о том, что потребности духа, в конечном счете, должны быть редуцированы до элементарных потребностей животного характера, что без последних ни при каких условиях немыслимы и первые. Такое представление действительно может возникнуть на основании опыта повседневной обыденной жизни современного человека, размеренной и рутинной, как правило, не дающей повода для возникновения пограничных ситуаций. Однако нередки и такие ситуации, которые разрывают ткань обыденности и в результате приводят две составляющие человеческого существа в состояние взаимного отрицания, сокрушительного столкновения, из коего становится ясной истинная природа каждой из них, а также подлинный характер их взаимоотношений.
Поясним это на конкретном примере. Некое лицо оказывается перед выбором: сохранить собственную жизнь, при условии взять на себя страшную функцию массового палача, или отказаться от того и от другого. Если он выбирает первое, то в таком случае, очевидно, действия его будут носить скорее вынужденный, нежели произвольный характер. Здесь всё достаточно очевидно даже с эмпирической точки зрения, стало быть, у нас нет оснований сомневаться в том, что этот пример демонстрирует, как в попытке сохранить себе жизнь, освободиться от смерти человек становится рабом обстоятельств.
Теперь допустим, что он выбирает второе; и в этом случае оценить подлинный характер его поступка оказывается значительно сложнее. Дело в том, что никакой эмпирический опыт в принципе не может удостоверить нас в возможности моральных поступков, поэтому и вышеприведённый пример может лишь пояснить, но не доказать положение, согласно которому человек в состоянии действовать вопреки складывающимся против него обстоятельствам, поскольку моральный по форме поступок на самом деле, по субъективному содержанию своему, может оказаться легальным (пользуясь терминологией Канта), т.е. эмпирически обусловленным. Однако в последнем случае, как подсказывает интуиция и наш субъективный опыт, у нас есть разумные основания для сомнения.
Утверждая высшим принципом морали счастье человека, а также всё то, без чего немыслимо это счастье, или жизнь человека саму по себе, в её отдельности, мы, тем самым, имплицитно утверждаем, что все действия человека связаны объективной необходимостью, чем-то внешним по отношению к человеку, стало быть, носят характер адаптации в окружающей среде. Из этого следует, что мы не имеем никакого права говорить о человеке как субъекте свободной воли, т.е. у нас нет никаких оснований выделять человека как нечто совершенно исключительное из прочего состава животной жизни. Признать это означает согласиться с тем, что действия сотрудников фашистских концлагерей являются совершенно оправданными, более того, идя по пути этой логики, мы должны назвать их благими и абсолютно необходимыми с точки зрения внешних, детерминирующих нас обстоятельств, ведь они лишали жизни других, чтобы сохранить её себе, имея в виду, прежде всего, собственное счастье, личное благополучие; другими словами, они просто не могли поступить иначе.
Однако, осуждая такие действия, мы оперируем к человеческой свободе, будучи безусловно уверенными в её наличии, а также в том, что, сохранив нравственное достоинство, присущее ему как субъекту свободной воли, человек в самоотверженном героическом порыве способен преодолевать внешние обстоятельства, разрывать причинную зависимость детерминирующих его условий и, в результате, возвышаться над ними, порой даже и ценою собственной жизни. Если мы признаём за человеком такую возможность (на основании второго примера мы имеем на это право хотя бы в форме гипотетического предположения), мы должны также признать и то, что моральный поступок не может быть следствием обусловливающих человека обстоятельств, не является органическим продолжением естественного хода событий, но, что очевидно из второго примера, напротив, прямо противополагается последним.
Таким образом, моральное действие человека не может быть мотивировано ни эмпирически достоверным фактом, ни рационально обоснованной истиной, ни материальной вещью, то есть ничем внешним, извне обусловливающим человеческое поведение, из чего становится ясным, что высшие духовные потребности человека не могут иметь свой источник в детерминирующей человека среде как прямо противоположные ей.
Резюмируя сказанное, мы должны предположить существование некоего более высшего блага, которое бы отменяло благо более низшее, связанное с удовлетворением материальных потребностей, в свете которого становится очевидным: в мире существует нечто такое, что для человека дороже его собственной жизни, а именно, его нравственное достоинство как субъекта свободной воли. Очевидно, что это высшее благо как-то связано с жизнью других людей, но определяется не ими как таковыми. Утверждение, согласно которому жизнь ближнего моего должна быть мне дороже моей собственной, зиждется как на своём основании не на жизни ближнего, взятой в значении эмпирического факта, поскольку, в таком случае, как и всё эмпирическое, жизнь человека представлялась бы чем-то случайным и относительным, но на чём-то таком, что, с одной стороны, действительно как-то связано с жизнью человеческого индивидуума, с другой – бесконечно её превышает. Моральный закон удостоверяет нас в том, что каждый человек со стороны своей ноуменальной природы заключает в себе нечто сверхчеловеческое и сверхприродное, которое, таким образом, и является по существу истинным предметом нравственной деятельности, а человек, и как субъект и как предмет подобной деятельности, является носителем этого начала.
Однако на вопрос, каков действительный источник этого представления в человеке, если эмпирически воспринимаемая действительность мира явлений не даёт материала для появления и развития подобного рода представлений, человеческий разум, очевидно, не может дать положительного ответа. Если бы его субъективная безусловная значимость была бы равнозначна его объективной достоверности, нам следовало бы признать, что предмет этот абсолютно трансцендентен актуальной реальности, следовательно, и человеческому рассудку. В связи с этим можно лишь сказать, что те эмпирики-позитивисты, которые хотят вывести содержание этого представления путём индукции из чувственно воспринимаемого мира явлений, подобны тем, кто исходную точку пути полагает за достигнутую цель. Очевидно, нравственное начало указует на то, что настоящее состояние мира в нравственном отношении, мягко говоря, далеко не идеально, т.е. противоречит должному, поэтому относительно нравственности может выступать лишь как исходная точка, в пользу которой говорит лишь её фактическая достоверность. С другой стороны, как цель, на противоположном полюсе находится некоторого рода идеальное представление о нравственно совершенной реальности, мира ноуменального, моральное совершенство которого противополагается фактической достоверности мира феноменального как нравственно несовершенного.
Так нравственное начало в человеке свидетельствует о существовании второго, отличного от эмпирического, измерения бытия, которое не встраивается в матрицу чувственно воспринимаемого мира. Следовательно, нравственность указывает, во-первых, на несовершенство земного мира, отказывается видеть в этом мире лучший из миров, требует признать за ним статус относительного, т.е. феноменального, бытия. В тоже время, во-вторых, это есть как бы чаяние иного, более совершенного мира, предчувствие которого заставило Льва Шестова воскликнуть: «Не скрывается ли, однако, где-нибудь в глубинах бытия такая «действительность», при которой природа законов противоречия и тождества совершенно радикально менялись бы, так чтобы уже не они повелевали, а человек повиновался, а чтобы они повиновались приказаниям человека?..». Кант называет этот лучший мир «царством целей» и прибавляет: «Учение христианства <…> даёт в этом отношении понятие высшего блага (Царства Божьего), единственно удовлетворяющее самому строгому требованию практического разума». Так идеал нравственный требует перехода в идеал религиозный, порождает эсхатологические ожидания нового, нравственно совершенного царства.
Совершая моральный поступок, который сам по себе, в своём чистом виде не имеет никакого отношения к удовольствию, счастью, стремлению к самоутверждению или пользе, человек поступает не в соответствии с тем эмпирически данным мира явлений, которое наличествует в действительности, а в соответствии с тем, как должно быть с точки зрения априорного закона нравственности, действие которого в нас, тем не менее, настолько безусловно, что всё вышеперечисленное кажется условным и преходящим, призрачным и ничтожным, по сравнению с ним.
Совершая нравственный поступок на основании лишь идеального представления, воля человека действительно мотивированна, обусловлена некоторым предметным содержанием, однако, и в этом заключается существенное отличие морального поступка от какого-либо другого, воля человека оказывается при этом свободно мотивированной, тогда как в противном случае она всегда принудительно мотивирована. Таким образом, предмет нравственной деятельности нисколько не исключает свободу воли человека. Более того, представление о нравственности необходимо человеку именно для того, чтобы иметь возможность совершать свободно мотивированные поступки, с которыми, по преимуществу, и связано понятие о свободе воли человека. В противном случае все поступки человека были бы принудительно мотивированы, и, хотя при этом сохранялась бы иллюзия автономии, на самом деле не было бы никакой возможности говорить о свободе воли.
Итак, повторим вслед за Кантом: свобода и нравственный закон ссылаются друг на друга. Отношения между свободой и нравственным законом не терпят внешнего вмешательства, игнорируют факты эмпирической действительности, а так как знание, по словам Шестова, нудит человека принять действительное, моральный выбор должен быть сопряжён с верой и не зависеть от знания. Чрезмерное познание обессмыслило бы мир, принуждало бы людей вести себя в полном соответствии с законами природы, «их поведение превратилось бы просто в механизм, где, как в кукольном представлении, все хорошо жестикулируют, но в фигурах нет жизни». При этом «перестала бы существовать моральная ценность поступков, к чему единственно сводится ценность личности и даже ценность мира в глазах высшей мудрости». Должно думать, именно поэтому Кант ограничил знание, чтобы дать место вере, вере как свободно мотивированному, т.е. моральному поступку.
Таким образом, отвечая на поставленный нами ранее вопрос о предмете культурной деятельности, следует сказать следующее: значение свободного, творческого акта заключается в возможности человека посредством идеального представления возвышаться над фактической, т.е. принудительной данностью эмпирически воспринимаемого мира, на основании внутреннего нравственного законодательства отменять законы последнего. Руководствуясь только идеей, имеющей умопостигаемый, идеальный характер, т.е. на основании только представления человек в состоянии вносить новое содержание в эмпирическую действительность, преобразовывать её элементы. Без этого допущения мы не можем даже помыслить о существовании чего-то такого, что коренным образом отличалось бы от природы, от непосредственно данного, т.е. цивилизации и культуры. Предмет этот, ограничиваясь до времени лишь общей формулировкой, определяется как долженствующее быть; и уже это определение указывает на то, что этого нет в действительности (по крайней мере, во всей его полноте), что наличная, актуальная действительность не соответствует критерию должного. А что же должно быть? На этот вопрос мы так же можем дать пока лишь общий ответ, опираясь при этом на главные модусы бытования человеческого духа, – это Истина, Добро и Красота.
Для того чтобы объяснить динамику культурных идей в истории, следует признать, что каждая из вышеупомянутых сторон человеческого духа априори содержит в себе представление о должном, требованиям которого актуальная действительность не соответствует, что порождает некоторого рода дуализм, в стремлении преодолеть который – в стремлении от бессмыслицы к смыслу, – современная культура и цивилизация зарождаются. «Возможность стремления к усовершенствованию необходимо предполагает и совершенство, – пишет С.Н. Булгаков, – как тот идеальный масштаб, с которым сравнивается несовершенное настоящее. Без предположения существования такого совершенства мы не можем даже мыслить усовершенствования. Идея совершенства, таким образом, дана нам вместе с стремлением к усовершенствованию».
Иными словами, чтобы объяснить такие явления человеческой жизни, как идею прогресса, развитие цивилизации и культуры, мы с необходимостью должны признать, что нам, людям, помимо стремления сделать нашу жизнь более комфортной и безопасной, изначально, так сказать, от природы, присуще также представление о некоем совершенном бытии, которое в каждой области человеческого духа находит своё специфическое отражение, вовне выражаясь в формах, присущих соответствующим областям человеческого духа: познавательная сторона призвана свидетельствовать об идеале логического совершенства (идеал чистого разума по Канту), нравственная сторона – об идеале нравственного совершенства (идея высшего блага у Платона), эстетическая сторона – об идеале эстетическом (категория «прекрасного» в искусстве).
[1] Такой взгляд на природу религии был присущ, в частности, И. Канту, утверждавшему, что отличие религии от морали чисто формальное.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

