Любимый мой (5)
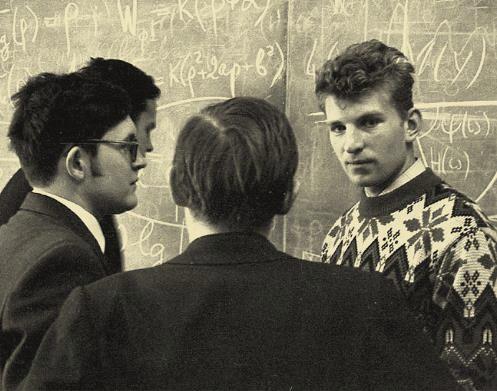
VII
Я в Москве.
– Ты помоги мне, – Тамара зачем-то принялась снимать с меня зимнюю куртку, не успел я расстегнуться. – Приехал к ней, положиться на меня не хотел. Помогай.
Я, кивнув, прошел по дому.
Они сосуществовали не один день.
Тамара устало смотрела на пол в грязных подтеках. Вещи свои Гаврилюк на кухне, в коридоре и на кровати Тамары разбросала как попало.
– Ой, Тамарочка, ма-па, – просюсюкала Гаврилюк при виде нас, не тронувшись в комнате Тамары с пола. – Это из нашей группы Алик. Хороший Алик – поможешь?
Я поднял Инну. Я смотрел на нее. Я не хотел ее видеть. Но я никогда не видел ее столь довольной.
– Посиди за столом, – поставила Тамара сумку с одеждой опять рядом с Гаврилюк. – Переоденься здесь, а я мужчину – Алик, ну-ка отопри комнату мамы! – пока отвлеку.
Они шептались долго.
Вскоре комната Инны – Тамара там закрыла дверь не сразу – наполнилась звуками, гугуканьем.
Я был в комнате мамы. Сев рядом, Тамара утонула, как и я не рассчитав движения, в перине не огромного даже, а исполинского дивана. Напротив – царственное великолепие антикварных, с золоченым тиснением фолиантов в шкафу темного дерева, а на полке над письменным столом тесно брошюркам по психологии и о природе человека. Мамино хобби. Комната отпиралась с трудом – замок давно не трогали.
– Инна беременна, больна и не хочет к врачу, – сообщила, помолчав, Тамара. – За мной тянется. Как за кочегарами – повсеместно. Но спит одна.
– Пока не надо к врачу, – попросил я. – Психотропными дубинами будут бить сразу. С интерната у нее боязнь пропасть без следа. Клали ее не раз. Мы приучены: у нас сбои по фазе у выпускников каждый год – психушки это только констатируют.
– В райцентре-скорлупке ей несдобровать – даже если маманя ее с интернатской добавкой оставит дома, – сообразила Тамара.
– Она вообще из деревни, – поправил я. – Аминазин там – слово инопланетное.
– «Скорую» вызвала Вадьке я, – стала рассказывать Тамара. – Кочегаров Инна напрягла – хвалилась, передали мне с удивлением, достатком: переехав, мол, в Москву из глухомани, жила припеваючи, солила-варила, кладовку ему, этому Вадиму-хахалю, у свекрови до потолка запасами забила – а та, мол, за все добро Инну на улицу. Кочегары чуть юриста ей не наняли – надо же за московскую прописку воевать, мол, ей.
Аренин навестить пришел, стал их гнать – они чуть не растерли его о котел. И пока Инна их не умолила: «Прошу не стоять у меня в проходе. Хорошенько поговорим – да, Вадюшка!» – не ушли.
«Тамара – там скандал, – меня на крыльце предупредили. – Мы в конторе погреемся».
Я ждала на крыльце Ваню. Инна вышла из котельной: «Ой, он привел себя ножом по лопатке в чувство».
Аренин лежал на топчане – дыра краснела на балахоне. Потом («скорая» увезла его) Инна перебралась к нам с Осташовым на крыльцо: «Это Тамара из наших? Ой, Тома, у тебя найдется покушать?»
Кочегары, перебив ее, отозвали меня в котельную. Я забрала вещи Инны и пообещала кочегарам прописку Инне «порешать».
«Осташов, уходя, сказал мне: «Матрешка-яга, сиди дома в деревне». – Инна показала мне на пустое крыльцо. Мы ушли.
«А теперь – чья очередь?» – спросил потом у взявшей телефонную трубку Инны Осташов. Я подошла к трубке. Мне он, не ответив, велел ее гнать…
Тамара помолчала.
– Ей не к кому пойти? – удивился я. – У Аренина есть дом.
– Забривают твоего однокашника. Моя мама дала мне телефон военного госпиталя. У его мамочки вырвав этот телефон (та сына спасала: «Берите его приплод и нянчите»), моя мама распрощалась с нами.
– Аренин говорил с вами? – спросил я.
– «Помоги ей – ты любишь изгоев», сказал он. – Ответила мне Тамара тоном Аренина. Она терла горевшие щеки и добавила тоном Аренина. – «Твоя очередь подошла». И бросил трубку в госпитале.
– Что же происходит? – сказал я Томе.
– Не знаю. – Тамара пожала мою руку. Отчаяние у нее было близко. Но она справилась. – Алик, ты нуждался – тебе помогали. Надо спать.
– Тома! Поднялась!
Пойдя на крик, Тамара повела ее, пока я спешно запирал входную дверь, на кухню. Гаврилюк двигалась то скачками – от двери к нам, как на асфальте играют в классы дети, то вертясь и ломаясь. Она просила у Тамары трюфели – руки у Тамары перепачкались шоколадом.
– Вадька тебя устроил в цирк? – пошутил я.
Гаврилюк заговорила, не смотря на нас – как будто передразнивая Аренина:
– Утренник устроит Вадька. Алик, ты еще песенку нам спой. У Тамарочки каникулы.
Тамара – щеки краснели – с негодующим фырканьем вспыхивала. Гаврилюк была очень довольна: она маленькая девочка, дочка Тамары. Жгучий стыд заставлял меня отворачиваться. Глядя, в основном, в кромешную пропасть за окном, я едва дождался конца оскверненного вечера. Гаврилюк мы отвели и уложили.
– Тамарочка, – потянула руки вертикально Гаврилюк. – Сложи рассказик на ночь – я утром пальчики отбила. Спать не дадут.
Тамара смотрела на стул – на спинке брюки и чулки Инны. И, сумев стереть с лица гримасу – хватило воли не зареветь, – заговорила ясно.
– Сетунь журчит внизу, – и мне, как очнувшись, показала на Гаврилюк. – Гуляла с краю – помогла той, таща за руки, выкарабкаться из пучины сугроба. Спи.
Раскладушку Тамара поставила в угол. Я на матраце спал между ними – на полу.
VIII
– Алик, сегодня едешь в Переславль, как всегда, – сказала утром Тамара. – Устраиваться надо.
Я был озабочен другим – как помочь ей ходить по магазинам, готовить, убирать. В Гаврилюк, кроме всего прочего, мне не нравилось неумение следить за собой, типичное для интерната.
Тамару напрягло.
– Не тебе здесь работать. – Тамара отняла веник. – Езжай.
– Пора тебе устраивать себя. – Гаврилюк пожала мне руку – как вчера Тамара. – Помочь мы больше не в состоянии.
Я опешил слегка. Она была похожа на взрослую Тамару! Инночка от приступа избавилась? Но она, в конце концов, училась в интернате без поблажек. В институте тоже держалась. Да и не понимал я ничего в этих болезнях.
И я стал одеваться.
– Алик, – обратилась Тамара. – Рано или поздно мы устроимся. Надо помнить, я – человек.
– Ананасы купи. – Гаврилюк дала мне свою сумку. – Очень хочу есть.
– Где хозяйская тара для еды? – возгласил я.
– Помогай, – в тон Тамаре повелела безмятежная Гаврилюк.
– Где я? – словно очнувшись, Тамара, как и при первой нашей встрече с ней, трясла всеми локонами – легкими, как у первоклашки. В халатике, голоногая…
… (Помню, вернувшись, я говорил и говорил. Тамара не перебивала. Кивала, я видел отражение ее в окне, в ответ. Мне в ответ. Я говорил, что нас очень мало – Аренин гений в математике и ищет красоту в нестандартном упрямо и без тормозов, и в моих работах ищет; Осивец самый приспособленный из нас – он надежнее всех, если бы не отсутствовал сейчас; Гаврилюк любила в интернате нас. Я говорил, что другого выхода нет. Тамара молчала)…
Когда Тамара уехала за билетами, я все еще был в комнате мамы. Звонил. Сначала – в госпиталь. Узнав от Аренина, что Гаврилюк от него в Белоруссии забеременела, и сообразив, что ехать нам в общежитие в Переславль нельзя, а больше пока некуда, набрал телефон Осташова.
– Мне нужна квартира на два дня. Гаврилюк потом я устрою на частной, – просил я.
– Очередь ваша. – Осташов говорил непреклонно. – Сегодня не получится.
Тамара дала деньги Гаврилюк.
– Сквозь землю провалилась вся моя компания, – посетовала она. – Одолжил папа. Зря ты так: Осташов – монах и расстрига одновременно, не звони ему.
– Как так одновременно? – Гаврилюк изумилась.
Она походила на… меня!
– Не вам судить, – отрезала Тамара.
Гаврилюк хныкала, хвостом ходя за нами. Апельсины – привоз их был в «Балатоне», куда я попал, таскаясь за смешившими всех продавщиц Москвы ананасами, Гаврилюк посчитала топологическими фильтрами.
… (Около «Балатона» я сочинил монолог для Тамары – той девочки на крыльце в безлюдье, и это та девочка потом со всем согласилась в маминой комнате, кивая у окна)…
– Алик, – капризно позвала Гаврилюк. – Хватило бы точки-дольки. Множество – зачем?
Тамара загремела раскладушкой на кухне. Мы с Гаврилюк легли, как вчера: она – на кровати, я – на полу.
IX
Почему навалился гнет в автобусе? Показалось – не с кем посоветоваться.
Но сам я перестал понимать, что делаю, уже на перроне. (А ведь когда Тамара ездила за билетами вчера, казалось еще, что сил много). На перроне я зачем-то назвал Тамару «моя любимая». Она пожала мне руку. Я раскис. Тамара простилась с Гаврилюк, в сторонке шепчась. И не пошла к автобусу.
Я в автобусе не мог ни о чем посоветоваться с Гаврилюк. Она не держала раньше при мне монографий в руках. Она… читала книгу по алгебре Ван-дер-Вардена.
Она это делала точь-в-точь, как я!
У меня краснели щеки. Я заметался, взгляд отводя, но не видя окрестностей, не различая пассажиров впереди (вереница кресел с будто бы брошенными на спинки пустыми головными уборами). Она прилежно смотрела в книгу до автовокзала в Переславле.
И дальше она не позволяла помогать себе.
Сосед по комнате в общежитии мешкал с ответом на просьбу: «Поживи пока на этаже, пожалуйста, – мы найдем выход» – пока Гаврилюк не посмотрела с пренебрежением на магнитофон, его драгоценность, и не заговорила о том, что у нас в Москве проходит мода даже на «Грюндиги». Тут сосед извинился и ушел.
Но сутки спустя сосед вернулся с компанией местных меломанов. Орали – похоже, за бормотухой, бутылки с которой открывались то и дело, – развязно, глуша, даже потолок трясся, Высоцкого. Нам они ничего не говорили. Но ничего не понявшая Гаврилюк – она впивалась в них взглядом сноба, – поехала в общагу педвуза, только когда я сказал: «Сосед просит, – не видишь разве? – уйдем».
Назавтра я силком увез ее с пединститутских посиделок – кровати были переполнены слушательницами, те, раскрыв рот, глотали монолог Гаврилюк об интернате, после которого нам с ней, мол, легко учиться в захолустных вузах, а курс математики в педвузе казался ей сплошной прогулкой.
– Ты не заболела без Москвы? – перебил я, глядя на Римму, знакомую, через которую Гаврилюк я сюда и устроил.
Так я машинально повторил реплику, которой Римма часто глушила меня.
– Алеша, это мои однокашницы, – чуть не плача, Гаврилюк упиралась.
– Девочкам я обещал одно: наутро ты уйдешь, – пояснил ей я в коридоре. – Уже день.
Я метался все время – по улицам, к шахматистам и даже к Артамонову.
Хозяева домов на облюбованных квартирантами улочках меня встречали как проигравшего:
– А ты где был осенью? Мы искали квартирантов. А теперь никто никого не ищет.
Вспоминался тон Тамары – говорила на вокзале:
– У вас там нет головной боли с московской пропиской.
Артамонов, проходя мимо, кивнул без слов, как неприступный идол. И сел в троллейбус. Ответа на переданную через секретаршу просьбу – помочь устроиться девочке из интерната хотя бы где-то и на время – ждать смысла не стало…
Взяв из комнаты (а там меломаны, за криками с кассеты, не услышали моих сборов) вещи Гаврилюк, я поднялся в читальный зал общежития.
– В захолустье сидеть над алгеброй и топологией – какая это глупость! – Гаврилюк грустно протянула. – Но деваться некуда. Затягивает нас наука, Алик.
Она говорила, как я. Я не мог этого вынести. От нее. Только от нее. Другого выхода не было. Я предложил:
– Здесь тебе работать нельзя. Езжай, Инна.
Гаврилюк стала говорить о моем таланте:
– В интернате, Алик, я была от него без ума.
– Надо устраиваться. – Помогая ей надеть пальто, я кивал.
В общежитии, в троллейбусе, на вокзале она говорила, я кивал.
– Нас очень мало, – слышал я, идя хвостом за гуляющей в ожидании рейса – билет я купил на Москву, – Гаврилюк. – Вадька – гений, находит красоту в нестандартном – во мне тоже; Осивец – самый живучий и приспособленный…
– Самый надежный, – прибавил я, кивая.
– Тома любит математиков устраивать; мы должны принимать других, какие они есть; любить друг друга – другого выхода нет…
Я все не мог ни капли жалости найти к идущему рядом человечку. Она уезжала в Москву. Наверное, к Осивцу. Мне было очень приятно слушать. Только слушать. Как бы самого себя. Логика подкупала. Гаврилюк любит всех интернатовцев.
Но я чувствовал страх и когда она усаживалась в автобус и махала мне рукой, и когда там женственно белело ее лицо, и когда автобус загудел. Я только ужасался, провожая громаду автобуса с сидящим в нем страшным человеком. И провожая взглядом габаритные красные огни, я чувствовал только леденящий страх.
Сев в читальном зале, я боялся только за этот свой дом. Не за МГУ, не за квартиру Тамары. Боялся только за этот вот дом: читальный зал. Был благодарен, что он не разрушен. До утра, согреваясь только произнесением одной фразы: «Прости меня, Господи!» – я лежал на стульях в читальном зале. Ни школ не было на свете, ни интерната.
Потом понял: я все разрушил. Отправив ее к Осивцу, я никому не помог. Таких мук я раньше не знал. Вина обдавала меня стыдом круглые сутки. Я не помог никому раньше, чем она, эта вина, пришла! Я просыпался в темной комнате – как и не спал. Вина здесь, рядом. Как смерть – рядом. Вместе смотрим – к моему взгляду присоединяется угрюмая тяжесть смерти, – в окно на небо. Иду днем по улице – хочется только плакать. От вины. Люди на тротуаре как на эскалаторе. Движутся вереницей. Мимо.
Заняться дипломом – смертельно стыдно. Я и не пытался. Я не способен никому помочь – интернатовцы в МГУ, в доме том, с Гаврилюк. А я здесь. Все в доме том у них разрушено. Потом – попытался…
Я не был в интернате никогда потом.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

