Путь гения и религиозный путь: в продолжение размышлений Н. Бердяева
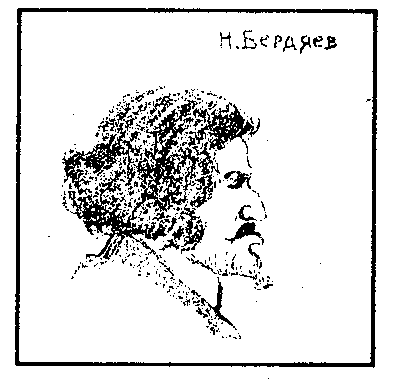
Вдохновенные строки знаменитого сочинения Н. Бердяева «Смысл творчества» порою звучат как пророческое откровение, возвещающее наступления новой религиозной эпохи: «Мы стоим у порога мировой религиозной эпохи творчества, на космическом перевале» [1, с. 116]. Первая религиозная эпоха соответствовала ветхозаветному «откровению закона» (Бог Отец). Вторая религиозная эпоха – новозаветному «откровению искупления» (Бог Сын). Чаемая Бердяевым третья религиозная эпоха будет «откровением творчества», – откровением Святого Духа [1, с. 296-297]. Эта эпоха станет соединением религии с творчеством, где «культ святости должен быть дополнен культом гениальности» [1, с. 177].
Наверняка почти всякий воцерковляющийся неофит из касты творческой интеллигенции замечает, что психология творчества весьма и весьма отличается от психологии христианского благочестия; что словом «духовность» в первом и во втором случае обозначаются радикально различные формы духовного опыта. Н. Бердяев не сглаживает, а наоборот, ясно и отчетливо артикулирует это противоречие. «…Если для искупления нужно великое послушание, то для творчества нужно великое дерзновение» [1, с. 120]. А поэтому «психология творчества очень отличается от психологии смирения и не может быть на ней построена … Невозможно делать научные открытия, философски созерцать тайны бытия, творить художественные произведения, создавать общественные реформы лишь в состоянии смирения» [2, с. 361]. Отсюда – парадокс, что в исторически сложившейся системе приоритетов христианской морали «жизнь обыденная, обывательская, мещански-бытовая» считается «более христианской», нежели стремление к познанию и творчеству [2, с. 351]. Ибо последнее чревато духом гордыни, что в Православии расценивается как один из самых опасных грехов. И как следствие данного парадокса, – то, что какой-нибудь корыстолюбивый лавочник «менее подвержен опасности вечной гибели, чем тот, кто всю жизнь ищет истины и правды, кто жаждет в жизни красоты, чем Вл. Соловьев, например» [2, с. 351].
Наверняка почти всякий творческий интеллектуал, желая быть в то же время и благочестивым христианином, сталкивается с проблемой: творческий полет духа здесь не воспаряет еще выше, а наоборот, имеет тенденцию заземления в том, что Н. Бердяев называл «бытовой христианской моралью» [1, с. 224]. В шаблонах языка сегодня это циркулирует, в частности, под маркером «семейных ценностей». «Семейные ценности» «бытовой христианской морали» в современном обрядоверии, как и во времена Н. Бердяева, имеют приоритеты перед ценностями творчества. Поэтому творческой интеллигенции очень хотелось бы найти духовную опору в утверждении Н. Бердяева о том, что к Богу можно приходить разными путями; что гениальность – это иной религиозный путь, «равноценный и равнодостойный пути святости» [1, с. 173]; что «творчество не менее духовно и не менее религиозно, чем аскетика» [1, с. 165]; что гениальность Пушкина, который, как известно, отнюдь не отличался христианским благочестием, по-своему равноценна (как утверждает Н. Бердяев) христианскому подвигу великих святых. «Гениальность – святость дерзновения, а не святость послушания» [1, с. 174].
Например, тяжесть соблюдения постов связана не столько с пищевыми ограничениями, сколько с необходимостью держать в сознании «кухонные проблемы» и размышлять о том, что следует и чего не следует есть на завтрак, обед, ужин и т. д. Какая проза жизни! Какое заземление творческого полета мысли! Здесь так и хочется в очередной раз процитировать Н.Бердяева: «будничная проза жизни – не только последствие греха, она – грех, послушание ей – зло» [1, с. 234]. А уж если «кухонные проблемы» помножены на «семейные ценности», – здесь господствует тот самый «дух тяжести», когда «телом скованный, придавленный к земле, изнемогает дух, как этот свет во мгле» … Стоп … Это уже не Бердяев. «Дух тяжести» – персонаж философии Ф. Ницше, а процитированная строка – из стихотворения Ш. Бодлера «Предрассветные сумерки». Богоборческие интенции упомянутых, – бесспорно, гениальных авторов, – общеизвестны. Причем речь здесь велась не только о моральном зле или попрании нравственных «ценностей». «Переоценка ценностей» в данном случае далеко выходила за рамки морально-этической сферы, а шла в векторе некоей иной религии – антиподе христианства. Об этом свидетельствуют, к примеру, уже названия произведений: «Литании Сатане» (Ш. Бодлер); «Антихрист» (Ф. Ницше). И в этом смысле, как ни парадоксально, гениальность упомянутых авторов – вполне в русле концепции Н. Бердяева: гениальность – это иной религиозный путь. Правда, акцент здесь уже следует делать на слове «иной».
Продолжая данные рассуждения, обратим внимание, что даже там, где не идет речи о явно богоборческих интенциях, – признанные гении философии все же, как правило, становятся еретиками, когда они обращаются к области религиозных исканий. Оставим разговор о Ф. Ницше. Не будем говорить даже о М. Хайдеггере: этот величайший гений философии в своих поздних размышлениях переориентируется от феноменологического опыта Присутствия к ожидаемому Пришествию … явно не христианского «Неведомого Бога». Обратимся к русской религиозной философии, претендовавшей быть творческой философской интерпретацией Православия. В. Соловьев … С. Булгаков … П. Флоренский … Н. Федоров … и, наконец, Н. Бердяев. Философия всеединства … Софиология … Имяславие … Космизм. И здесь, при самых благих намерениях синтеза между философией и христианской верой, между религией и наукой, ярчайшие философские гении все-таки обвинялись и обвиняются в ереси со стороны «политкорректного» христианского богословия.
Поскольку данное утверждение может показаться далеко не тривиальным, на нем следует остановиться подробнее. В концепциях всеединства и космизма христианское богословие усматривает искаженное прочтение темы соборности и синергии, подменяющее христианство «космическим панхристианизмом» [3, с. 67], где личное отношение между Богом и человеком растворяется в природном космическом всеединстве. А потому, как пишет известный богослов В.Н. Лосский, «Церковь знает Богочеловека, но “Богочеловечество” … ей чуждо; более того, Она всегда боролась против подобных учений» [3, с. 72]. Что касается софиологии (В. Соловьев, С. Булгаков; истоком данного учения был, вероятно, религиозно-мистический опыт В. Соловьева), то связь с ересью гностицизма здесь вполне прозрачна. Софиология С. Булгакова была осуждена в 1935 г. указом Московской Патриархии. Далее. Такое направление русской религиозной философии, как философия имени (С. Булгаков, П. Флоренский) имело, в качестве предпосылки, ересь имяславия. Возникновение данной ереси среди монашества Святой Горы Афон стало причиной трагических событий, известных под названием Афонской смуты. П. Флоренский, С. Булгаков, В. Эрн выступили в поддержку ереси имябожничества и помогли сторонникам данной ереси «создать своеобразную теорию относительно имени Иисус, приспособив учение паламитов об энергии Божией к своему учению о том, что имя Божие … есть Бог» [4, с. 55]. (Не хотим быть превратно понятыми, и потому должны сделать оговорку. Все вышесказанное ничуть не умаляет значения великой русской философии Серебряного века. Здесь следует видеть лишь дополнительный штрих к теме нетривиального отношения между гениальностью и религиозностью).
Религиозно-философским идеям о грядущей эпохе «богочеловечества», где соединение религиозного духа с творческими устремлениями совершит преображение всего космоса, подводит итог, в конце концов, сама же русская философия. В формате краткого резюме оценка подобных проектов может быть сформулирована словами С. Франка: все это – «ересь утопизма» [5]. Данный вывод стал результатом осмысления опыта русской революции, в которой Н. Бердяев и С. Франк усматривали некий сакрально-религиозный подтекст, далеко выходящий за рамки ординарного социально-политического переворота. Попытки воплощать в жизнь утопические проекты царствия Божьего на земле оборачиваются своею противоположностью. Как пишет С. Франк, утопизм «вместо искомого царства добра и правды … вел к господству неправды, насилия и злодейств; вместо желанного избавления человеческой жизни от страданий … приводил к безмерному их умножению» [5, с. 74]. Процитированное суждение С. Франка, очевидно, применимо не только к марксизму, но и к такой утопии, как космизм, вкупе с ноосферным мышлением. Подобной инверсией, вероятно, чреваты любые утопии, когда их пытаются воплощать в действительность. Ибо утопизм, как резонно утверждает С. Франк, есть ересь; ересь, поскольку «благая весть Нового завета о спасении мира … мыслит это спасение принципиально в порядке надмирном» [5, с. 80]. А посему попытки построения имитаций «рая на земле» неизбежно приведут к противоположному результату. Урок русской революции подводит к аналогичному выводу и Н. Бердяева. Бердяев констатирует как факт, что до сих пор «не удался ни один замысел, поставленный внутри исторического процесса», и все попытки воплотить в жизнь идеальные проекты «во все периоды должны быть признаны сплошной неудачей» [6, с. 154]. Причем это отнюдь не случайность, но здесь открывается аутентичная суть истории, как таковой. «История есть, поистине, – и в этом ее религиозное содержание, – путь к иному миру. Но внутри истории невозможно наступление какого-либо абсолютно совершенного состояния, задача истории разрешима лишь за ее пределами» [6, с. 154].
Обсуждая вопрос об отношении между творческой одаренностью и духовным опытом христианского благочестия, сначала необходимо отделить аутентичную суть христианской веры, как таковой, от многообразных культурно-исторических напластований, привнесенных в христианство той или иной национальной традицией. Может быть, «дух тяжести», сопряженный с тем, что Н. Бердяев назвал «бытовой христианской моралью», составляет не внутреннюю суть христианского духовного опыта, а лишь внешнее привнесение, явившееся следствием симбиоза христианской веры с традициями русского крестьянского/мещанского быта? Из той же серии, как, к примеру, бытовавшая у русского крестьянства традиция угощать испеченными из теста и освященными в церкви крестами коня и корову, как «младших членов церкви» [7, с. 231]. Но нет, выявленное различие между дерзновением творческой мысли и духом христианского смирения имеет гораздо более глубокие основания, нежели национальные традиции русского крестьянского или мещанского быта. Артикулируем расхождение философии гениальности как «святости дерзновения» Н. Бердяева теперь уже не с «бытовой христианской моралью», а с богословием Восточной церкви. Важно отметить, что, в отличие от католической теологии, богословие Восточной церкви не было чисто интеллектуальной традицией, но формировалось на основе обобщения живого мистико-аскетического опыта подвижничества в Православии.
Противопоставим две позиции.
1. Н. Бердяев полемизирует с необходимостью «хронологического соотношения между спасением и творчеством»: что-де сначала нужно побороть свои грехи, а творить уже после этого. Никому, даже в течение всей жизни, – замечает Н. Бердяев, – не удавалось «окончательно победить грех». Поэтому, если жить по логике этой последовательности, – «никогда не наступит времени, когда я в силах буду начать творить жизнь» [2, с. 362].
2. Традиция святоотеческой аскетики, напротив, учит строго придерживаться последовательности в стяжании добродетелей, которую св. Василий Великий уподобляет лествице, увиденной Иаковом. Наставление в смирении здесь недвусмысленно предостерегает против преждевременного стяжания высших духовных даров, напоминающего попытку перепрыгивать через ступени этой лествицы. Как учит св. Исаак Сирин, «каждая добродетель есть мать другой добродетели. Поэтому, если оставишь матерь, рождающую добродетели, и пойдешь искать дочерей прежде, нежели отыщешь матерь их, то оные добродетели оказываются для души ехиднами. Если не отринешь их от себя, то скоро умрешь» [Цит. по 8, с. 297]. Причем, как мы аргументируем далее, в христианской аскетике наставление о соблюдения последовательности в обретении духовных даров имеет весьма нетривиальный аспект. Это требование выходит за рамки морально-этических «добродетелей» и заключает в себе более глубокий онтологический смысл.
Если до сих пор пространство полемического диалога выстраивалось между философией творчества Н. Бердяева и христианской святоотеческой аскетикой, то далее мы расширим территорию диалога, подключив к ней психологию, а затем – нейропсихологию.
У. Джеймс в своем исследовании многообразных форм религиозного опыта затрагивает, в том числе, и феномен гениальности. Кстати, У. Джеймс, как и Н. Бердяев, использует словосочетание «религиозные гении» (Н. Бердяев об апостоле Павле: «он был в большей степени религиозным гением, творцом, чем святым» [2, с. 362]). Джеймс склонен усматривать в гениях, и в религиозных гениях в том числе, скорее пассивные орудия каких-то иных сил. Гений является не источником, но лишь проводником неких извне сообщаемых ему движений: «гений должен делать то, что делает» (курсив мой) [9, с. 314]. Обратим внимание на тему пассивности гения, которая далее может быть прокомментирована в свете более продвинутых исследований нейропсихологии.
А далее – весьма характерное наблюдение неизбежности «расплаты за гениальность», в контексте чего феномен гениальности можно связать с сакральным архетипом жертвоприношения. Совершаемое гением открытие всегда бывает «оплачено дорогой ценой, превышающей намного социальную ценность его» [9, с. 314]. Гений как бы приносит свою жизнь в жертву, но большую часть приобретенного забирают не люди, а Бог. По метафорическому выражению У. Джеймса, из ста заработанных гением рупий Бог оставляет людям всего одну рупию, а все остальное берет себе.
В дополнение к теме неизбежной расплаты за творческий дар можно привести пронзительные строки стихотворения, посвященного смерти В. Высоцкого (автор точно не известен; возможно, В. Солоухин).
И, разумеется, ярким примером того, как срабатывает указанная закономерность, могут быть судьбы тех российских гениев, – романтически настроенных философов, писателей, поэтов Серебряного века, для которых ожидаемая эпоха «нового откровения» обернулась катастрофой русской революции. Кто-то из них был отправлен в вынужденную эмиграцию на «Философском пароходе» (Н. Бердяев, И. Ильин, С. Трубецкой, С. Франк). А кто-то расстрелян или погиб в сталинских лагерях (Н. Гумилев, П. Флоренский).
Но речь идет о чем-то более радикальном, нежели внешняя расплата за творческий дар, которая настигает гения по какой-то непонятной закономерности. Существует и более кардинальная версия, что сама гениальность, как таковая, есть «одна из многочисленных ветвей невропатического древа» и даже, более того, «является симптомом наследственной дегенерации» [9, с. 30]. Впрочем, как замечает У. Джеймс, все это не резон ставить под сомнение ценность того, что достигнуто гениями в любой области. Гений, как уже было замечено, выступал орудием неких сил. Просто у разных людей в жизни разные предназначения. Одни более предназначены для порождения идей, другие – для рождения себе подобных. Обратим внимание на созвучную мысль Н. Бердяева: «наиболее рождающий – наименее творящий» [1, с. 197]. Аналогичное суждение, уже расширенное до «мега-масштабов» исторических закономерностей, было в свое время высказано другим выдающимся русским философом, – Л. Шестовым. «Гениальные люди обыкновенно не имеют потомства или имеют детей-идиотов». Так и в истории за эпохами расцвета рафинированной культуры «по пятам следует вырождение, сметающее с земли все слишком требовательное, утонченное и преувеличенно осведомленное» [10, с. 136]. Одной из наиболее ярких иллюстраций данного тезиса, конечно, является, как уже было сказано, Серебряный век русской культуры и последовавшая за этим русская революция.
Теперь перейдем на «твердую почву» современной когнитивной науки, соединившей философскую теорию познания с позитивно-научными исследованиями в области психологии, нейропсихологии, нейрофизиологии, разработками в сфере ИИ и т.д. Когнитивная наука сегодня радикально пересматривает традиционную версию познания как репрезентации, – «отражения» реальности, господствовавшую ранее в классической теории познания. На смену метафорическому ряду «отражения» и «зеркала» в современной эпистемологии приходит «экология познания», где познание сравнивается с выстраиванием дополнительной экологической ниши, – «когнитивной ниши» [11, с. 103]. Каждый организм создает себе экологическую нишу, приспосабливаясь к окружающей среде и одновременно подстраивая эту среду под себя. Так и в процессе познавательной активности мы не только и не столько отражаем реальность «такой, как она есть», но, скорее, конструируем свою «когнитивную нишу», – свой собственный мир, в котором можем чувствовать себя более или менее комфортно.
Продолжением «экологического» подхода к познанию является также «иммунологический» подход. В когнитивной иммунологии, основоположником которой является чилийский нейробиолог Ф. Варела, когнитивная активность сравнивается с дополнительной иммунной системой. В познавательном процессе здесь усматривается функция, аналогичная иммунитету: поддержание гомеостазиса посредством отфильтровывания чуждых вторжений, либо встраивания их в систему собственного жизненного мира.
В русле этой метафоры, феномен гениальности можно сравнить с таким «симптомом наследственной дегенерации», как разрушение неких уровней иммунной системы. Тогда как у заурядных, – так называемых, «нормальных» людей, – система фильтров «когнитивного иммунитета» функционирует вполне эффективно. Достаточно многочисленные данные об измененных состояниях сознания свидетельствуют, что каждый человек способен воспринимать все, что происходит в любой части вселенной, а также вспоминать до мельчайших деталей все, что случалось когда-либо в его жизни (пример тому – исследования трансперсональной психологии С. Грофа). Но, как аргументирует О. Хаксли, работа перцептивного аппарата в «нормальном» режиме его функционирования связана не с «производительной», а, скорее, с фильтрующей функцией защиты от переполнения нашей психики этой «массой избыточных впечатлений» [12, с. 19]. В этом контексте затрагивается также вопрос об использовании ЛСД – препарата, прием которого, как стало известно впоследствии, стал причиной некоторых великих открытий (например, двойной спирали ДНК Ф. Криком; полимерной цепной реакции Б. Муллисом; создание персональных компьютеров С. Джобсом [11, с. 287]). Как аргументирует ряд авторов, – в том числе, упомянутые О. Хаксли и С. Гроф, – ЛСД не является ни наркотиком, ни галлюциногеном, а просто блокирует питание мозга сахаром. Следствием чего становится полная пассивность «когнитивного иммунитета», – фильтрующей работы перцептивного аппарата [12, с. 21].
В этом контексте уместно также вспомнить о демаркации между талантом и гениальностью, которую проводит Н. Бердяев. В отличие от гениальности, «талант “от мира сего”», тогда как «гениальность – от “мира иного”»; «в таланте нет жертвенности и обреченности» [1, с. 176]. Таким образом, можно сделать вывод, что феномен гениальности сопряжен с чем-то, наподобие сбоев или ломки каких-то уровней иммунной системы. В том числе, очевидно, и неких форм «духовного иммунитета», ограждающих душу от соприкосновения с «миром иным»: различных форм религиозного опыта, которые в обычном режиме не проходят через фильтры «нормально» функционирующего перцептивного аппарата. А преждевременный опыт религиозных видений в православном подвижничестве считается чреватым самой страшной опасностью: впадения в «прелесть духовную». «Прелесть» в данном случае – от слова «прельщать» и «прельщаться»: прельщаться светом падших ангелов, который лишенная духовного иммунитета душа может принять за свет благодати Божией. Св. Серафим Саровский на вопросы о том, почему так прельщает Сатана, отвечал, что это – тоже свет, хотя и падший. А душе свойственно тянуться к свету. Кстати, можно заметить, что те примеры духовного опыта «религиозных гениев», которые рассматривает в своем исследовании У. Джемс [9], с точки зрения традиций православной аскетики, относятся, скорее, к разряду «прелести духовной».
Теперь по-новому видится смысл святоотеческого предостережения против преждевременного стяжания высших духовных даров, о чем шла речь выше. И здесь же можно вернуться к мысли Н. Бердяева о творческом даре как откровении Святого Духа. Символом Святого Духа является огонь и получающий эти дары вступает в огненную стихию. Постепенный путь христианского подвижничества по лествице духовного восхождения имеет целью не только нравственное, но, прежде всего, онтологическое преображение человеческого естества для принятия огненных даров Святого Духа. Тогда как гений, минуя лествицу смиренномудрия, получает эти дары ценою саморазрушения, как бы сгорая в них заживо. Интересно в этом контексте заметить, что в христианском богословии встречается весьма нетривиальное толкование адских мучений. В геенне огненной грешников сжигает тот же огонь Духа Святого; просто для кого-то он является как свет Благодати Божией, а для кого-то – как огонь опаляющий. Так, св. Григорий Богослов допускал возможность посмертного «крещения в огне» как «спасения через ад», в котором грешники будут «крещены огнем, – этим последним крещением, самым трудным и продолжительным» [Цит. по 8, с. 422]. Правда, нельзя сказать, что данная версия является вполне общепринятой в богословской традиции … Но, впрочем, она не расценивается также и в качестве еретической. Что же, в таком случае, можно согласиться с Н. Бердяевым, что гениальность иногда являет иной религиозный путь.
Литература:
1. Бердяев Н. Смысл творчества // Н.Бердяев. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х т. Т.1. М.: «Искусство», 1994. С. 37-341.
2. Бердяев Н. Спасение и творчество // Н.Бердяев. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х т. Т.1. М.: «Искусство», 1994. С. 343-367.
3. Лосский В.Н. Спор о Софии. // В.Н. Лосский. Боговидение. М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. С. 9-108.
4. Игумен Петр (Пиголь). Афонская трагедия. М.: 2005. 144 с.
5. Франк С.Л. Ересь утопизма // С.Л. Франк. Русское мировоззрение. СПб.: Наука, 1996. С. 72-86.
6. Бердяев Н. Смысл истории. М.: «Мысль», 1990. 174 с.
7. Флоренский П. Из богословского наследия // Богословские труды. Сб. XVII. М.: Изд-во Московской Патриархии, 1977. С. 85-248.
8. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М.: Данилов мужской монастырь, 2010. 432 с.
9. Джеймс В. Многообразие религиозного опыта. СПб.: «Андреев и сыновья», 1993. 418 с.
10. Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. СПб.: Изд-во ЛГУ, 1991. 216 с.
11. Князева Е.Н. Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии М.:, СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. 352 с.
12. Хаксли О. Двери восприятия. СПб.: «Азбука – классика», 2007. 215 с.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

