Верните кашне, или Поездка на Марс на трехколесном велосипеде (О метапрозе Игоря Шесткова)
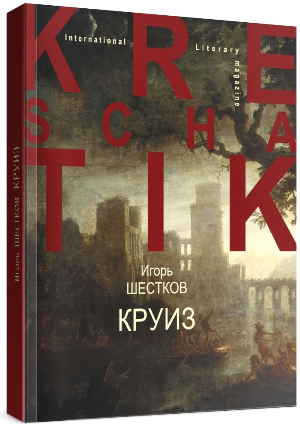
В неопубликованном послесловии к этой книге, в которую вошли тексты 2022-2024 годов, автор называет ее своим «литературным завещанием». «Последним фейерверком, – уточняет он. – Апофеозом или чем-то подобным. Высшим достижением…» И тут же сетует, что «тексты «Круиза» не так хороши, как некоторые мои предыдущие тексты».
С одной стороны, недавно изданные в «Алетейе» шесть томов прозы Игоря Шесткова (и еще три в киевской «Каяле»), по идее, предполагают всяческие последующие дополнения, но чтобы они оказались эпитафией, этакой автоэкзекуцией литературного мэтра... «Никому мои тексты не интересны и не нужны, – не унимается он. – Не нужны коллегам-писателям. Не интересны литературным критикам. Даже моим взрослым детям не интересны и не нужны. Не говоря уже о бывших женах, подругах и друзьях (которых можно пересчитать на пальцах одной руки).
Не нужны никому… Это, конечно же, неправда. Но и не кокетство автора. С одной стороны, как утешает себя Шестков, «тотальная невостребованность облегчает отказ от дальнейшей авторской работы», а с другой, не так уж она тотальна, и компания предшественников, в которой – и Гофман, и Гоголь, и даже Куприн, рядящийся под них в «Звезде Соломона» – могли бы это подтвердить. И потом, если вспомним Михаила Эпштейна, все это выглядит так, если бы богач раздавал все свои богатства и потом, став нищим, заново начинал их накопление. И недаром при этом речь об эросе – отличительной черте прозы Шесткова, и тогда понятно, что все дальнейшие уничижительные действия автора (писавшего, кстати, о мазохизме Бруно Шульца) – это «безумие собственника, желающего все потерять, чтобы заново все приобрести», и это есть свойство литературного любовника, коих немало в сюжетах нашего автора.
Возвращаясь к «Круизу» Игоря Шесткова – пятой книге в серии «Библиотека «Крещатика» – заметим, что сам он подтверждает вышеупомянутое «классическое» родство, уточняя свои жанровые предпочтения: «Фантасмагория, ужасы, чертовщина, абсурд. Все, как я люблю. Почти пародия. Непонятно на что». В данном случае имеется в виду повесть «Деменция» из самого начала книги. Уже в ней мы видим характерные черты метапрозы, присущие стилю Шесткова, а уж метапрактика, как определяют этот термин его создатели – и вовсе характерная особенность нашего московско-берлинского автора, проживающего множество жизней внутри одной, т.е. исповедуя «метафизическое насыщение каждого физического действия». Именно так расшифровывается извечная характеристика прозы Шесткова, данная нам не в ощущениях, но в аннотациях: «Автор перерабатывает «западный» жизненный опыт, последовательно создает свой вариант «магического реализма», не колеблясь, посылает своих героев в постапокалиптические, сюрреалистические, посмертные миры», «Да… дать герою под зад… и на Марс его, – подтверждает автор «Круиза». – В космическом трамвае. А рядом с ним посадить выходца из ада… В малиновых ботинках. С сахарной ватой в лапах… Пусть он сам разбирается в себе… а автора и читателя оставит в покое. На следующей станции, на Кольцевой его ждет Мартовский заяц. Или – Человек в котелке. Или – Монсеньор с серебряной трубочкой в руках».
И гротеск здесь ни при чем. Какой еще гротеск может быть в обычном кошмарном сне, коих немало в нашей нынешней жизни? Так, технические неудобства, не более – в которых, тем не менее, вся роскошь авторской метафизики. «Ехал на трехколесном велосипеде для взрослых. Тяжелом. Неуклюжем. Велосипед дребезжал, скулил и трещал. Приходилось останавливаться, поднимать его и опускать, не обращая внимания на его протесты. Потому что колеса попадали как в капканы – в коварные продольные грязные выбоины в асфальте и там застревали. Стершиеся от времени ручные тормоза не работали, дырявое плетеное сидение травмировало зад, ржавая цепь то и дело со скрежетом слетала с главной шестеренки‐звезды. Ехал я очень медленно, глядел по сторонам и представлял себе, что сижу на сломанном механическом осле. Держусь руками за его огромные волосатые уши. Осел ревет, пускает ветры, но везет. По самому дну ада».
Тем более, что в этой книге макабрических повестей и рассказов Игоря Шесткова есть вполне себе отрезвляющие, актуальные тексты – жесткие, конкретные, с четкой авторской позицией. «Война и литература», «Из письма дяде», «Драка». А есть исключительно «художественные», хоть и созданные на реальной основе, вывернутой, по словам автора, словно носок (рассказы «Йорг» о фотографе и телеоператоре из бывшей ГДР) и наоборот, не имеющие жизненной подоплеки, как, например, «Вервольф», где вместо люстры висит мельничный жернов, а в углу стоит виселица. А вот – два больших текста – «Из дневника герцога О» и «Вилла Урания» – на любимую автором тему «преступления и наказания», которая в данном случае раскрывается на жизненном опыте героя, предающегося на острове плотским утехам и боящимся разоблачения.
О страхе, кстати, в истории о герцоге О более чем убедительно. Вам знаком этот страх? Слова, которыми его выражают, мысли, которые гонишь прочь, а они все равно жужжат в голове, как москиты. Именно москиты, поскольку вспоминается «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Хантера Томпсона, где главный герой (отгоняя не москитов, но летучих мышей) точно так же ждет, что его схватят и посадят на электрический стул за все его непотребства. Герцог О у Шесткова уверен в том же: «А завтра или послезавтра тут уже будут хозяйничать карабинеры. Они перевернут все вверх дном и будут допрашивать всех нас с пристрастием. Кто‐то из вас выложит им всю подноготную. Расскажет не только о последних семи днях, но и о том, что тут происходило последние семь лет. Вы, чертовы негритосы, выкрутитесь, вас в худшем случае вышлют на Молуккские острова. А меня – обдерут как липку и бросят на съедение гиенам».
Кстати, не случайно именно в «церемонных» текстах Шесткова случаются ситуации, когда повествование вдруг меняет регистр, переключаясь с высоких материй на телесный низ, и тогда вспыхивают «анархические» желания – в поезде, на острове, во время похоронного обряда, как у Кафки. И автор в своем неопубликованном предисловии к «Круизу» зря извиняется насчет подобных «переходов» в своих текстах. Ведь эстетика его метапрозы такова, что чем жестче структуры, описываемые в ней – советские, марсианские, вовсе несуществующие – их нарушение (даже воображаемое, как в «Бордовом диване») становится более событийным.
Ну, и, конечно же, пародия у автора, про которую он пишет – она вовсе не там, где кажется. Порой он даже сам того не замечает. Таково уж свойство этой метапрозы, когда текст, казалось бы, готовый у Шесткова перейти из упомянутого событийного в размеренно орнаментальный (яркие страсти как обрамление скучной реальности), вдруг начинает жить своей жизнью, уезжая на Марс или растворяясь в зыбком тумане оргазма. Так, например, ситуация с героями повестей «Круиз» и «Четвертая корона», превращенными с помощью магии в невесть каких персонажей, немо кричащих из чужого нутра, напоминает одновременно безысходность фильма «Морж» с парнем, мутировавшим с помощью маньяка в животное, и финал «Сердец четырех» с выкатившимися вместо героев кубиками. А уж мать в «Мраморном доге» у Шесткова идиоматично и вовсе перекликается с «жидкой матерью» в упомянутом романе Сорокина (так, по крайней мере, назывался фельетон о нем в «Литературной газете» 1990 года). И если с последним автором подобный волапюк и в жизни случается, когда, скажем, пишет в письме Владимир Георгиевич, цитируя нашу общую знакомую, московскую поэтессу: «Пришла зима, похожая на восемь», а ты ему осторожно отвечаешь, стараясь не потревожить дух Введенского: «Плечо надо множить на четыре», то у Шесткова все более реалистично. Ему, изменившему личину на аватарке в Фейсбуке, в личной переписке говорят: «Верните фото в кашне!» А он: «Слишком мрачное». А может, так действительно лучше? И замена соответствует реальности? А то был случай – один писатель пришел на прямой эфир в темных очках. Ему говорят, снимите. Он снял, а в ответ: «Верните, как было». Потому что без очков ну совсем тяжко смотреть – и ему, и на него...
Подобный взгляд, будто «сквозь непротертые очки», как у формалистов, всегда был присущ Шесткову. «По дороге я все спрашивал его – где Берлин? Где города? О тогдашней Восточной Германии я не имел понятия, – вспоминает он свой приезд заграницу, где его встречал дальний родственник жены по имени Эдик. – То есть мне и в голову не приходило, что немцы могут так жить. Как? Объясню позже». Собственно, этим Шестков и занимается в своих книг – по крайней мере, поначалу – превращая советскую реальность в западный сюрреализм, знакомый его московским сверстникам лишь по скудным переводам Кафки и репродукциям Сальвадора Дали в польских журналах. Впрочем, у него, как у художника – сплошные коннотации и отсылки к мировому искусству, и тоже изданному в свое время в «Библиотеке всемирной литературы». Пузатыми томами которой в конце 1980-х в СССР были забиты все букинистические магазины: уезжающие за бугор поспешно сдавали некогда «престижные» издания, украшавшие их сталинки и хрущовки. Из которых, вспомните, оставшиеся гурманы тщательно отбирали лишь проверенную классику вроде «Дон Кихота» или «Похождений бравого солдата Швейка», оставляя годами пылиться на полках прочую «Калевалу» и «Героический эпос народов СССР». «Если вы непременно хотите их себе представить, найдите иллюстрации Густава Доре к «Гаргантюа и Пантагрюэлю», – то и дело отсылает читателя Шестков, говоря о своих героях. (Кстати, вместо этого тома на полках у букинистов тоже зияла извечная, как тоска эмигранта, дыра в 200-томном собрании БВЛ).
И все это, заметим, к вопросу о стиле – удивленного эмигранта? умудренного совка? Кстати, о стиле. Ну, и про стилистику, конечно, тоже. В рассказах Шесткова всегда слышен отзвук «прежних времен» – средневековых ли, советских, все равно. Ведь даже Брейгель с Босхом у него – из альбомов, изданных в ГДР, которые в магазине «Дружба» (или «Планета»?) студентом покупал. А вот еще был художник – ну никак с тех пор не удается его найти. Городские ландшафты с покрученными трубами, батареями и прочей полуразрушенной урбанистикой. Линке, что ли, его звали. У кого ни спросишь, никто не помнит. А ведь он был, был! На лекциях по истории архитектуры его рассматривали, срисовывали, смаковали. Может, там же и остался? Причем явно из того же ГДР было родом это искусство, и оно как нельзя лучше иллюстрирует иные тексты нашего автора.
То же самое у Шесткова. Вроде бы и в Западном Берлине человек живет, а восприятие тамошних «свинцовых мерзостей жизни» – явно из восточного сектора, где, собственно, все страны советского лагеря и обитали. Вы помните? Детская железная дорога, резиновые индейцы, журнал «Neues Leben», опять же, и группа «Puhdys». «Воздух культурной Европы! – вспоминает автор свое прибытие в Германию в 1990-м году. – Европы, только недавно освободившейся от гнета своего и советского коммунизма."
Как бы там ни было, но фрейдистских символов – от матери (Родина-мать) до старухи (советские маразматики у власти) – в прозе Шесткова немало, он ими буквально жонглирует, и они при этом избавляются от своей пресловутой многозначительности, становясь привычными метафорами и банальными сравнениями. Ведь что такое метапроза автора «Круиза»? Это, по определению, такая практика, которая расширяет смысл повседневных действий, помещает их в бесконечно растяжимый смысловой континуум: от крошечных деталей повседневности до понимания вселенной и своего места в ней. Фантасмагория, скажете? Сюрреализм? Мир фантазий? «Другие миры эти – вовсе не «другие»… – уточняет автор в «Ответе на вопрос друга», – нет, это тот самый мир, в котором мы на самом деле существуем. Мир представлений и чувств, страхов, надежд, мир мечты, сюрреалистический театр свободного человека… то единственное, что делает нашу жизнь выносимой».
А еще в этой прозе – точнее, в ее сюрреалистических текстах – порой скрываются ответы, которые автор, «разделавшись круто с таможней», как у Галича, дает самому себе, как раз живо и реалистично рассказывая о своей эмиграции. «Как вы тут очутились? – спрашивают его героя. – В городе с слонами и варанами на улицах. Как вы стали Эльком? – Если бы я знал! – отвечает герой. – Однажды утром я проснулся в другом мире… в многоэтажной башне в этом городе, в квартире на седьмом этаже. На полу. Думал, еще сплю. Но сон и не думал кончаться. С тех пор я тут. Стараюсь жить так, как будто ничего не произошло».
Но в жизни и героя, и его автора произошло все-таки многое. А также – в мире, где, по словам одного и другого, метафоры материализуются, параболы составляют суть жизни, а реальность вечно ускользает, и где Игорь Шестков – как бы он ни отрицал – относится к ключевым фигурам русского Берлина. Ну, и эмигрантской литературы в целом – лакуны, где он последовательно разрабатывает способы своего письма, создавая биографические мифы и фиксируя распад нашей реальности.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

