Via Fati. Часть 1. Глава 3. К истокам того, чего никогда не было
|
В предыдущих главах мы встречаемся с поэтом (от его лица идёт повествование) и его возлюбленной Корой, странной девицей, которая не очень-то уж и стремиться к сближению. Между поэтом и Корой идёт странный поединок, игра в полную безучастность, и только Via Fati, о которой пишет поэт и куда он собирается поехать, способна вызвать хоть какой-нибудь интерес этой неприручаемой красотки. Продолжение следует. |
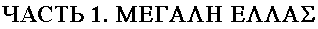
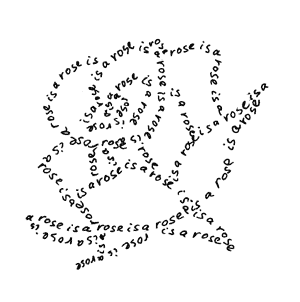
|
 Галина Лукшина. "Исполнение времен" (1992) |
Ничто важное не замечает меня. Мне снились золотые коровы, мирно
пасшиеся на усыпанных бриллиантовой росой, ослепительно зеленых
бархатных лугах. Они никак не реагировали на мое
присутствие и на мои поглаживающие прикосновения к разогретым солнцем
драгоценным бокам. Эта жрица богини недоумения сделает из
меня идолопоклонника, думал я, проснувшись.
Я взялся просматривать свои ночные наброски, вспомнив, что кажется,
написал вчера стихотворение. Оно показалось мне неплохим, я
напечатал его и решил зачем–то отослать Коре.
На острове, среди камней и моря, Церквей, олив и чаек вдалеке, Роптал прибой и, серенаде вторя, Терялся где–то в зябнущем песке. Притворством слов и ядом поцелуев Тебя не обмануть, а правды — нет. На эту жизнь — торжественно пустую Я обречен в теченьи долгих лет. Я жив одним безумием надрывным И день за днем, почти лишенный сил, Смущаюсь ядовитым и призывным Благоуханьем пролитых чернил. Но что тебе, ахейская богиня, До этих бурь, терзаний и щедрот? Как будто, все ушло, я верю, ныне И эта боль, привычная, уйдет. Благая ночь сменяет смутный день, И мне не остается ничего, Лишь тень, одна сгустившаяся тень От складки одеянья твоего.
Она готова во второй раз перемениться, уныло бормотал я себе под
нос. Неужели, время настигло и ее?
Мало что из случившегося я помнил так отчетливо, как знакомство с
Корой. Боже мой, но я ведь с ней никогда не знакомился...
Я заканчивал тогда вторую ступень. Оставалось только написать
дипломную работу. «Будь традиционным, начинай с классики, модерн
от тебя никуда не денется», — говорила мне мама, и я не видел
оснований не следовать ее советам. — «Почему бы тебе не
отправиться в Грецию и не увидеть все... то, что осталось,
своими глазами». Мама и прежде часто пыталась спровадить меня
куда–нибудь, подальше от духа болезни, прочно поселившегося в
доме. Именно она настояла на том, чтобы мне учиться не в
нашем культурном и университетском городе, а в соседнем
мегаполисе. Именно мама неоднократно повторяла, что мне следует
увидеть мир. Но, пока была жива бабушка, я не чувствовал для
себя моральной возможности уезжать надолго и ограничивался
непродолжительными вылазками.
Прошел год, с тех пор как умерла бабушка; тихо ушла, освободив маму
от каждодневных многолетних забот о себе. Мне было
невыносимо жаль бабушку, которая выгуливала меня по парадным улицам и
паркам, наряжая в бархатные штанишки и белые, в кружевах,
рубашки, которая пересказывала мне «взрослые» романы в
доступной для меня, семилетнего, форме, которая занималась со мной
французским и часами просиживала — увы, безуспешно, я так и
не стал музыкантом — со мной за фортепьяно. Но время скорби
неизбежно сменяется временем радости и в более черствых
сердцах, чем мое, тогдашнее, двадцатилетнее сердце. И, вслед за
естественной печалью от леденящего дыхания бездны, пришла
столь же естественная языческая горячая радость жизни. Я
наивно полагал, что эта радость не может не распространиться и
на маму.
Мой тогдашний руководитель вряд ли мог чему–то меня научить, зато
предоставлял полную свободу в выборе тем изысканий. Раз каждый
греческий булыжник уже рассмотрен в лупу со всех сторон,
попробован на зуб и обстоятельно описан в толстых книгах, то
кто может запретить мне проверить, насколько адекватны эти
описания, и насколько адекватен я сам в роли потенциального
описателя, рассудил я и пошел заказывать билет.
Первоначально я планировал отправиться с Гансом, другом и
сокурсником, с восторгом принявшим предложение и тоже, вслед за мной,
готовым взяться за греческие темы, но, справившись о ценах и
переговорив с домашними, грустно сообщил, что ему очень
неловко, но он никак не может составить компанию. Его
отец–почтальон — ах, я и без того давно знал, что его отец работает
почтальоном, хотя и не был представлен... Его отец–почтальон
едва в состоянии содержать семью. Ганс — старший из детей —
не только должен заботиться о себе сам, но и, по
возможности, помогать семье. Он будет работать целое лето, как делал
все предшествующие годы. Почтальоном. Мне, мальчику, выросшему
без отца, с бабушкой, прикованной к постели, и мамой,
зарабатывавшей на жизнь уроками музыки, всегда было болезненно
странно узнавать от Ганса подробности быта его семьи. Я,
полусирота, чувствовал себя сытым барчуком по сравнению с этим,
во вполне благополучной и, судя по всему, с некоторыми
намеками на образованность, семье выросшим юношей. Ганс постоянно
где–то подрабатывал, и значительная часть его времени
уходила даже не на саму эту неквалифицированную, скучную и плохо
оплачиваемую работу, а на беготню, связанную с ее поисками.
Ума не приложу, как ему удавалось при этом хорошо учиться.
Ситуация стала еще более диковинной, когда нам, в ту пору уже
студентам второй ступени, предложили подработку при факультете. Мы
проверяли контрольные работы, сидели секретарями при
кафедрах, даже вели время от времени семинары у первокурников. За
эти необременительные занятия нам платили вполне достаточно,
чтобы не думать о других подработках, но Ганса это не
остановило. Он бежал за гроши помогать какому–нибудь унитазному
мастеру или садовнику и, вернувшись в гарсоньерку, которую мы
нанимали с ним на пару, всю ночь проверял тетради.
Побеседовав со студентами, например, о способах приготовления рыбных
блюд в эпоху Диоклетиана, он несся чистить от тины бассейн
при какой–нибудь богатой вилле. Но я не задумывался над тем,
нуждается ли мой друг в моей помощи для того, чтобы
освободиться от комплекса нищеты. В молодости меня интересовало
все, кроме денег.
Прозрение пришло гораздо позже, и мне было очень грустно, когда оно,
наконец, пришло. Правда состояла в том, что Ганс отдавал
родителям только незначительную часть заработанных им денег, а
оставшееся помещал на собственный тайный счет. Позднее
выяснилось, что к тому моменту, когда мы стали подумывать о
Греции, он мог бы позволить — грошик к грошику — по меньшей мере
пять таких поездок, в то время как мне пришлось выскрести
до дна банковский счет и взять денег у мамы.
Но тогда правда была другой: я, праздный и состоятельный,
отправлялся развлекаться. Работящий Ганс оставался работать. Я
довольно быстро смирился с тем, что поеду один и не думал больше о
Гансе, а думал о Греции, о свободе, о любви.
Моя тогдашняя пассия, второкурсница с экономического, была очень
милой, но слегка старомодной девочкой, ей отчего–то безудержно
хотелось замуж, поэтому я не рискнул пригласить ее
прокатиться со мной. Я искренне сомневался в том, что смогу стать ей
достойным мужем, и путешествие должно было, в частности,
помочь мне развязаться с тем романом.
На своем факультете я предпочитал не заводить с девицами
основательных отношений. Но на каждом из младших курсов было по
нескольку студенток, которых я знал по именам, и с которыми
по–джентльменски раскланивался в длинных университетских переходах.
Став «старым» студентом, я сделался смелее с юными девицами
и к описываемому времени уже, по меньшей мере, года три
подряд выделял из безликой студенческой массы с десяток
первокурсниц, имена которых стоило выяснить. На одну из таких
полузнакомых барышень я и наткнулся в университском холле, когда,
в праздничном предотъездном возбуждении, спешил завершить
дела. Случайно ли, что именно на эту из многочисленных
платонических пассий? Могла ли оказаться на ее месте какая–нибудь
другая?
Возраст нейтрального созерцания мира давно прошел для меня, и теперь
мне пристало задумываться не столько над адекватностью
возникших до меня понятий и дефиниций, сколько над написанием в
традиционной технике своей собственной уникальной картины
мира, которую я, по роду занятий, призван бросить ковром под
ноги мирянам, охраняя их если не от глубоких луж, то, во
всяком случае, от дорожной пыли. Со временем ковер этот
неизбежно обратится в тряпку, пригодную только для вытирания обуви,
а после и вовсе рассыплется в прах, но мне нет до этого
ровным счетом никакого дела. Могу ли я теперь верить или не
верить в случай? Я убежден лишь в одном: справедлива абсолютно
любая теория, если отыщется какое–нибудь явление жизни,
которое объяснимо только исходя из этой теории.
Тогда, впрочем, все выглядело предельно просто: довольно высокого
роста, стройная, с правильными чертами лица, темноволосая
девушка спокойно стояла в холле и, казалось, чего–то ждала. На
ней был черный, с глухим воротом, тонкий облегающий свитер —
то лето в средней Европе выдалось холодным — и какие–то
брюки, кажется, джинсы.
Я вспомнил, что ее зовут Корой и направился к ней вальяжной
пресыщенной походкой. Идиотским тоном первого любовника из
провинциального театра, я поздоровался с ней и осведомился о том, как
она поживает. Она отвечала, что поживает превосходно и, в
свою очередь, полюбопытствовала, как поживаю я. Я ответил,
что тоже поживаю прекрасно и, вместо того, чтобы раскланяться
и уйти, как делал всегда до тех пор, вдруг выпалил, забыв об
игривом тоне:
— Я уезжаю в Грецию через два дня. Не составишь ли ты мне компанию?
— Ах, такая благовоспитанная девушка сейчас должна
поблагодарить за приглашение и добавить, что она, к сожалению,
слишком занята.
— С удовольствием, — улыбаясь, ответила Кора, — я тут стояла и
думала: «А не сгонять ли мне в Грецию?»
Я остолбенел от неожиданности. Как так? — заговорил во мне добрый
обыватель, что за легкомыслие! Кроме того, быть может, она
полагает, что я повезу ее за свои деньги? Мой кошелек этого
явно не выдержит. Она, как будто, поняла, что меня беспокоит и
чуть снисходительно произнесла:
— У меня как раз есть деньги, которые нужно потратить на
удовольствия, иначе они принесут несчастье.
— Любые деньги надо тратить на удовольствия, иначе они принесут
несчастья, — я понемногу приходил в себя.
— Мы на редкость конгениальны, — отвечала она. — Итак, какой
компанией ты летишь, и где покупал билет? Я думаю, нам будет
удобнее лететь тем же рейсом?
Я сказал ей и номер рейса, и адрес агенства, и свой номер телефона и
простился с ней в полном недоумении, но склоняясь к тому,
что девочка, скорей всего, обладает занятным даром шутить с
непроницаемой физиономией.
К вечеру я почти забыл об этом разговоре, длившемся не более пяти
минут. Тем сильнее было мое удивление, когда Ганс подсунул мне
под ухо трубку, и я услышал в ней знакомый голос:
— На этот рейс было ровно одно свободное место. Встречаемся в аэропорту.
Я уехал к маме прощаться и не говорил ей о том, что, возможно, поеду
не один. Два дня, остававшиеся до поездки, я провел в
разнообразных раздумьях и, как бы мне ни хотелось обратного, над
всеми моими эфирными медитациями нависал вполне земной
вопрос: поедет со мной Кора или нет.
Рейс был утренним, но вовсе не настолько ранним, чтобы совершенно
лишить ночного отдыха, однако, заснуть в ту ночь мне не
удалось. Я не мог понять причины бессонницы и злился от этого. Я
встал с постели, пытался пить кофе и даже что–то читать, раз
десять проверил билеты, деньги и паспорт, долго рассчитывал,
когда мне нужно выйти из дому, чтобы не опоздать, и, в
итоге, прибыл в аэропорт часа за полтора до начала регистрации.
Мне было неловко от того, что я, осторожный недотепа, явился
так рано, и я не спешил к стойке, даже когда она открылась.
Прошло два часа. Коры не было видно. Все же пошутила, а
жаль, — подумал я и пристроился в хвост длинной очереди,
выросшей за это время к стойке регистрации. Наконец, появилась и
она, волоча за собой аккуратную, на колесах, дорожную сумку.
Черная блузка, черные брюки, темно–коричневая замшевая
куртка. Почему так мрачно, ведь такая молоденькая, думал я, идя
ей навстречу, в то время как мой рюкзак стоял вместо меня в
очереди.
Пока Кора разворачивала перед служащим аэропорта билет и паспорт, я
сообразил, что не знаю не только ее фамилии, но и полного
имени. К сожалению, я не вел семинаров в ее группе — то было
Гансово царство, а покопаться в общих списках курса, к
которым я вполне имел доступ, мне не пришло в голову. Вывернув шею
и скосив глаза, я кое–как разглядел через корино плечо ее
фамилию — Экхарт. Полное имя рассмотреть мне не удалось.
Видимо, Кора — сокращение от какого–то более длинного имени,
подумал я, или ее родители — гм–м, довольно смелые люди.
Смирно и безропотно отбыв положенные церемонии, вошли мы в самолет —
ах, не в обнимку, не держась даже за руки.
— Да, кстати, Кора — это Коринна? — спросил я, развалившись, наконец, в кресле.
— Кора — это Корнелия, — терпеливо объясняла моя юная спутница, — но
я не особенно люблю свое имя, с чего бы это мне
принадлежать к роду Корнелиев? Это слишком ограничивает. Но быть
Коринной, наверное, еще хуже.
— Твой папа — мастер Экхарт? — продолжал я допрос.
— Зачем же мастер — доктор, — чуть раздраженно ответила Кора, — но
если ты намерен обсуждать семейные темы, обратись лучше, —
она огляделась кругом, — ну хотя бы к этой даме.
Кора указывала едва заметным кивком на носатую, упитанную, в нелепых
кудряшках тетку, которая путешествовала одна и тоже
озиралась кругом, но не из праздного любопытства, а в благородных
целях осчастливить кого–нибудь из попутчиков содержательной
беседой. Больше я, кажется, никогда не расспрашивал Кору ни о
ее семье, ни о прошлом, ни о чем.
— Да, кстати, как относятся твои родители к столь... долго и
тщательно приготовлявшемуся отъезду? — то был мой последний вопрос
о той части ее жизни, которая никоим образом не могла меня
касаться.
— Никак, — услышал я сквозь сон.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

