Via Fati. Часть 1. Глава 21. Вечные штудии
Как поэту избежать участи дворника или самоубийцы? Кое-какие соображения на этот счет содержатся в очередной главе романа, публикация которого начата довольно давно, но в который все еще способны пробираться новые персонажи.
Допустимость поэтических компромиссов — об этом и не только читайте в интервью.
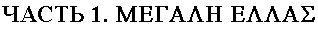 |
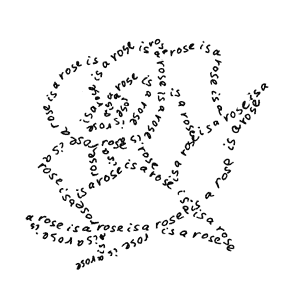 |
Американец по рождению, профессор Айхеншток был изгоем
академического цеха. О его происхождении по факультету носились самые
противоречивые слухи. Одни говорили, что он потомок беглых
нацистов, другие — беглых, от нацистов или коммунистов, евреев.
Мне так и не удалось докопаться до истины, да я и не
прилагал к этому ни малейших усилий. Что-то неудержимо тянуло его
из Америки, где он мог быть просто американцем, в Европу, где
ему следовало иметь, помимо американского, какое-то более
конкретное происхождение. Впрочем, Стефан, который, кстати,
всегда был без ума от Айхенштока и прогуливал свои физические
лекции в пользу его исторических, утверждал обратное.
Америка — совокупность практически непересекающихся общин, учил
Стефан, основываясь на собственном опыте, и, несмотря на
обожествляемое равенство возможностей, к любому американцу
привешена куча ярлыков, и самый яркий из них — община, из которой
происходит субьект.
Айхеншток был того роста, который обычно называют средним мужским
ростом, но который, с учетом современной акселерации,
воспринимается, скорее, как невысокий, коренаст, светловолос и
чем-то походил на моего отца. Я даже призадумался, забавы ради,
годится ли он мне по возрасту в отцы. Пожалуй, заключил я, он
старше меня лет на восемнадцать-девятнадцать и вполне мог
бы иметь сына моего возраста, если бы его юношескому
темпераменту суждено было воплотиться в потомстве.
Случайно оброненная уходящей Корой фраза значила, что Айхеншток из
просто изгоя неожиданно стал торжествующим изгоем, то есть
кем-то вроде академического тирана. Кора вряд ли могла быть
знакома с ним прежде, но не было ничего удивительного в том,
что имя его было ей известно, он был заметной персоной. Он с
треском вылетел с факультета, когда я оканчивал второй курс.
Впрочем, слухи и здесь были довольно противоречивыми.
Одна из главных версий, которой придерживался обиженный за кумира
Стефан, состояла в том, что Айхеншток из-за своих совершенств
не прижился на сереньком факультете, и от него избавились,
подставив его же студентку и вменив в вину злоупотребление
профессорской властью. Другая версия, которую проповедовал
Ганс, всегда крутившийся возле факультетских секретарш и
выведывавший от них кое-какие дворцовые тайны, заключалась в том,
что, собственно, никакого скандала не было, и Айхеншток
вовсе не вылетал с факультета, просто окончился его контракт, и
ему было обещано, что, как только появится вакансия, его
будут иметь в виду, а на студентке он женился по любви. Что же
касается репутации... В любой деревне должен быть свой
юродивый или шут, если он не появляется сам собой, можно и жребий
бросить. Мне не хотелось признавать, что истина повисла на
магнетических ниточках где-то между этими двумя полюсами,
поскольку вынужденный центризм всегда был для меня непосильной
ношей. Однако, некоторые сцены пьесы, жанр которой я не
берусь определить, разыгрались у меня на глазах.
На курс старше меня училась довольно яркая блондинка по имени
Ингрид. Никто, тем более она сама, не знал, какие ветры занесли ее
на факультет. Училась она не хуже и не лучше прочих
факультетских красавиц, то есть устные экзамены обычно сдавала
успешно, а по письменным случались переэкзаменовки.
Непреодолимой преградой для нее стал курс китайской истории. То ли
экзамены по злополучной дисциплине были сплошь письменными, то ли
профессора оказывались бесполыми чудовищами, прекрасной
Ингрид после нескольких пересдач грозило исключение. Жаль ли ей
было потерянного времени, или ее уязвляла тотальная
игнорация ее телесных достоинств, но Ингрид предприняла последний
штурм и, рыдая на сытом полушерстяном плече декана, добилась
права на еще одну, на этот раз определенно последнюю
пересдачу. Курс китайской истории в тот год читал Айхеншток, и
Ингрид, с третьего курса, зачастила к нам на второй на его
лекции, неизменно усаживаясь в первом ряду и одаряя лектора
страстными взорами. Айхеншток не замечал ее, как не замечал почти
ничего и никого, когда выступал публично. Вопросы во время
лекции запрещались. Отдельные слушатели не существовали для
него, как не существовало пределов его исторической
изощренности. Он говорил темпераментно, спортивно жестикулировал и
поднебесные изображал гримасы. Из династии Цинь он
перескакивал на одной ноге к Капетингам и, совершив пируэт через
русскую систему наследования при первых князьях, задом наперед
возвращался в Срединную империю, но уже в династию Хань, и,
отступая, походкой канатоходца, шаловливо бросал в нас,
непосвященных, горстями вишневых лепестков, которые складывались в
иероглифы, оседая на узких аудиторных столах. Нет, он не
подтягивал, если воспользоваться Стефановым выражением,
аудиторию до своего уровня. У Айхенштока имелась своя
трансисторическая концепция, опошлять которую, излагая ее студентам, он
не намеревался, но из-под его пера вышли несколько статей и
пара популярных книжечек, посвященных изложению упомянутой
концепции. Стефан, однако, был столь честен, что не пощадил
кумира, открыв, что что-то в этом роде уже было у
фрондирующих русских, работы которых по понятным причинам малодоступны.
Он отправился к Айхенштоку и долго о чем-то с ним
беседовал. Из содержания беседы он открыл нам с Гансом лишь то, что
Айхеншток, проговорив с ним добрых полчаса, не замедлил
выгнать его, когда узнал, что он лазутчик из другого цеха, то
есть физик-ренегат, а не историк.
Айхеншток великолепно понимал, что удержаться на плаву исторической
науки можно, только превосходя в познаниях в какой-нибудь,
пусть мелкой и изолированной, отрасли всех прочих коллег.
Айхеншток выбрал для этих целей Хараппскую культуру и
действительно, кажется, стал авторитетом, и ездил неоднократно в
Пакистан. В лекциях, прочтенных нам, он упомянул этот период
истории лишь однажды, когда ему понадобилось привести пример на
тему относительности культуры и варварства. Козырем явились
хараппские ватер-клозеты.
Самому Айхенштоку его собственные лекции вряд ли что-то могли дать,
напротив, он должен был удерживаться в рамках общеизвестного
материала и опрощать свои из источника девяти святых
почерпнутые ассоциации, низводя их до уровня школярских
арифметических сравнений. Но ему давали его два или четыре часа в
неделю и велели говорить, он честно наигрывал саксофоновым
баритоном джазовые импровизации на темы древней китайской
истории, совершенно обоснованно отыскивая параллели с историей
других народов, и в чем же состояла его эксцентричность?
Ингрид, между тем, приуныла, отсидев несколько первых лекций
Айхенштока. Получить вожделенный диплом теперь представлялось не
менее трудным, чем при помощи одних только женских прелестей
перемахнуть через Великую Китайскую стену. Ингрид надела
самые соблазнительные из своих одежд и отправилась на
консультацию к Айхенштоку, чтобы задать роковой вопрос: будет ли
экзамен устным или письменным. Одна привлекательная девица не
стала ассоциироваться у Айхенштока со стоухой, безмозглой и
бесформенной аудиторией. Он, я полагаю, с любопытством оглядел
пришелицу и ответил, что не думал еще над технологией
экзаменовки. Намек был сделан обеими сторонами и так же обеими
сторонами был понят. Идиллия постлекционных тэт-а-тэтных
экскурсов в китайскую историю превратилась бы в послеполуденное...
послеэкзаменационное, пардон, марево, а после тихо истаяла
бы сама собой, но суждено было разразиться грозе. Экзамен
был устным, и Ингрид успешно сдала его. Но тут на факультете
началось какое-то злобное брожение. И Ингрид, и Айхеншток
исчезли с арены. Поговаривали, что в деканат поступил донос.
Существовал ли донос на самом деле, кто мог его написать и что
он содержал, никто не знал, но ни Ингрид, ни Айхеншток на
факультете, кажется, больше не появлялись. От каких-то подруг
Ингрид стало известно, что она с Айхенштоком в Америке, в
роли законной жены. Общественное мнение опять разделилось.
Зачем это ему, с его свободолюбием, с его интеллектом —
безвкусная безмозглая девица с весьма сомнительной репутацией?
Зачем это ей, юной красавице — не слишком преуспевающий
эксцентричный даже не профессор, как оказалось, а так, неизвестно
кто, когда у нее впереди еще несколько прекрасных вольных
годков? Роковая страсть? Классическая мизансцена — профессор и
его студентка — требовала коррекции на то, что разница в
возрасте действующих лиц была вовсе не велика: профессор был
молодым профессором, да, собственно, и не профессором еще, а
студентка — не особенно молодой студенткой.
Уехав в Америку, Айхеншток тут же опубликовал роман, который он
писал еще здесь, наблюдая, как Ингрид в полном любовном
снаряжении штурмует китайскую стену. Роман имел успех. Передвижения
Айхенштока было легко отследить по научным каналам, и я,
признаться, время от времени это делал. Он сменил несколько
разных мест, не только в Америке, нигде не задерживаясь более
чем на год. В каждом почти из таких мест он не только издавал
новый роман, но, как сообщали подруги подруг, рожал нового
ребенка, не без помощи Ингрид, конечно. Он издал три или
четыре романа и завел четверых или пятерых детей — кажется,
количество детей превзошло количество романов. Он стал бы
богатым человеком, если бы не его бесчисленные дети и переезды.
Впрочем, он, может быть, и так разбогател. Я плохо понимал,
сколько может зарабатывать преуспевающий писатель. Теперь он
здесь. Зачем он вернулся? Зачем он вернулся именно сюда? Как
ему удалось вернуться? Выплыл на волне литературной славы?
Но ученые-историки не терпят исторических романов. Почему он
не оставил академических сфер, заделавшись беллетристом?
Перечисленные вопросы мучили меня не более и не менее, чем все
другие мирские вопросы, то есть, этот род истины был мне в
достаточной степени безразличен. Но я знал, что если получу
когда-нибудь степень, то только у Айхенштока. Все другие
потенциальные руководители глядели бы на меня так, как будто я только
что сбежал из лепрозория. Я был неудачником и жертвой —
таких не пропускают. Ситуация, на самом деле, еще печальнее.
Мои беды окончательно вывели меня в разряд не таких. Не
пускают не только неудачников, не пускают не таких, которые от
того становятся окончательными неудачниками, замыкая круг
скорбей. Айхеншток сам был не таким, смирим же гордыню.
Я холодно рассудил, что если Айхеншток согласится взять меня в
докторантуру, я вполне успею к началу семестра. Докторантам
платят какие-то деньги, у докторантов много свободного времени,
если только они не слишком тупы и усердны одновременно.
Только тупость или только усердие докторанта, по моим
наблюдениям, не ограничивают его свободы.
По дороге в университет я заглянул в большой книжный магазин. У
входа висел список «Тор 10», в котором исторический роман
Айхенштока «Поцелуй Изиды», перевод с английского, значился на
девятом месте, разрушая строй детективов. Я взял с полки
пухленький томик в цветастой, блестящей, как пристало бестселлеру,
обложке. Роман повествовал об авантюристе, объявившем себя
эманацией божественного Осириса, для чего, в предвосхищение
Писистратовой проделки, было разыграно действо с участием
никому не известной красивой девицы чрезвычайно высокого роста
— псевдопрототипа современных манекенщиц. Девица, которой
досталась трудная, но почетная роль богини, явилась перед
толпой молящихся в храме из дыма курений, воскликнула с
иностранным акцентом: «Вот брат мой, вот муж мой», пригнувшись,
чмокнула избранника в лживое чело и опять исчезла в дыму. На
основании божественного знака, избранник — протеже группки
жрецов — должен был свергнуть фараона и сам стать фараоном.
Дворцовый переворот удался, но новый фараон не ко времени
попытался избавиться от своих покровителей, отчего и погиб
смертью Осириса, и вряд ли Изида-манекенщица была приглашена
воскрешать его. Роман был довольно плоским, но радовал знатоков
точностью исторических описаний, эстетов — переливами красок,
блистанием драгоценностей и неплохим литературным стилем,
эротоманов — обилием голых тел и любовных сцен, и всех скопом
— бурно развивающимся сюжетом. Стефан останется доволен,
заключил я, а, скорей всего, он уже получил первое острое
удовольствие и теперь будет долго смаковать, пока Айхеншток не
разразится очередным романом. «Главное, что он обходится без
этих глупостей, без никому не нужной мистики,— говаривал
Стефан по поводу предыдущих романов Айхенштока,— пророк
становится пророком оттого, что объявляет себя пророком, а не
оттого, что его будто бы преследуют какие-то сомнительные
видения.»
Я и сам, признаться, с удовольствием прихватил бы цветастый томик
домой и провел за ним приятный пряный вечерок, но у меня не
было денег и мне пришлось поставить его назад на магазинную
полку. Ему хотелось поместить персонажей в Никуда,— выйдя из
магазина, я продолжал видеть роман, почти физически ощущать
бестселлерно-шероховатую поверхность бумаги,— и сделать их
Никем, лишив имени и происхождения, может, даже лишив
внешности и заставить их, под страхом быть вымаранными из рукописи,
Ничего не делать, но это невозможно, как невозможно рисовать
без красок, только палкой по земле, до первого дождя. Он
убегает в Никуда, раскинув в стороны руки, чтобы не было
соблазна нести что-нибудь в этих слабых, нерабочих руках, но
застревает в трещинах мироздания и попадает негодным, по
недосмотру не ослепленным рабом то на строительство ворот Иштар, то
к кельтским жертвенникам, то блуждает где-то в потемках
между семнадцатой и восемнадцатой династиями и видит, все
видит.
Была половина второго пополудни, когда я пришел, наконец, на
факультет. Там крутились не профессора и студенты, а строительные
рабочие в заляпанных робах — шел ремонт. Секретариат был
закрыт, секретарши, видимо, были в отпуске. Но хотя бы одна
должна же остаться, рассудил я и пошел по коридорам, лавируя
между складными лестницами и банками с краской.
— Вы кого-нибудь ищете? — раздался за спиной женский голос.
Ко мне обращалась очень полная молодая женщина в цветастых
просторных одеждах, с аккуратно завитыми светлыми волосами, с тонкой
папкой для бумаг в унизанных кольцами пухлых пальцах.
— Я ищу секретаря,— сказал я.
— Я новый секретарь,— бодро ответила незнакомка,— а секретариат
временно переехал, я как раз иду вешать объявление. Пойдемте же,
повесим его, а потом вы мне расскажете о вашем деле.
Мы вернулись к бывшему секретариату. Она достала из папки аккуратно
отпечатанный лист бумаги и ловко прикрепила его к двери.
— Кажется, мы вместе учились,— произнесла она, оглядывая работу.
Только теперь я узнал ее. Ингрид, что этот деспот сделал с тобой!
Впрочем, я понимал его. Он сделал ее такой, какой ему хотелось
ее видеть,— плодородной, завершившейся, и это отвечало ее
естеству. Он разглядел ее истинное лицо через слои масок —
наигранную развязность, ультрасовременную безвкусицу, легкий
развратец. И она до сих пор источает волны сладострастия. А
ведь есть еще какие-то дети, которых она с кем-то оставила, и
которые сейчас возятся, дерутся, вопят, а она стоит передо
мной свободно и раскованно, не дергаясь, по крайней мере,
внешне, от того, что с кем-нибудь из детей может что-нибудь
нехорошее случиться в ее отсутствие. Зачем он определил ее в
секретари, им не хватает на жизнь, что ли?
— Ингрид,— сказал я,— как я рад, с приездом, хорошего начала, но
ты... вы здесь секретарем, а образование?
— Ах,— ответила она, ведя меня в новый секретариат,— я была не из
лучших студентов, а теперь забыла и ту малость, которой меня
когда-то научили. И называй меня на «ты», неужели я так
состарилась, что это невозможно?
— Я, собственно, ищу твоего мужа,— признался я, усевшись на стул
перед ее новым, пластиковым, очень невдохновляющим письменным
столом.
— Я это уже поняла,— усмехнулась она.
Одним прибавляет интеллекта безбрачие, другим — неудержимое
супружество, отметил я для себя.
— Он здесь, в библиотеке,— сказала она,— я попытаюсь испросить для
тебя аудиенцию.
Ингрид набрала номер, видимо, библиотеки и вкрадчивым голосом
попросила пригласить к телефону профессора Айхенштока, если он еще
там. Ожидая ответа, она поправила прическу и постукивала
теперь наманикюренным ногтем по серой эмалированной
поверхности дырокола.
— Прости мне протекционизм,— сказала она мужу,— тут тебя ищет мой
старый знакомый, нельзя ли назначить ему рандеву? Спасибо.
— Сегодня в четыре часа пополудни, комната двести четырнадцать,—
сказала она мне, повесив трубку.
Я поцеловал ей руку, манерно раскланялся и удалился.
Прослонявшись два часа, остававшиеся до встречи, по улицам, я
подошел в назначенное время к назначенному месту. Дверь
свежеотремонтированного кабинета была открыта, в ее проеме, над
спинкой черного кожаного кресла виднелась склоненная к столу
спина, на которой заламывался горизонтальными складками
натянутый, оттого, что локти его владельца помещались на столе,
светло-серый пиджак. Над пиджаком возвышалась соломенная копна
волос. Я постучался в открытую дверь. Он повернулся на кресле.
— Да,— сказал он, глядя на часы,— шестнадцать ноль одна. Это вы
хотели со мной беседовать?
Мало переменился, подумал я. Мало переменился, объездив полмира,
написав стопку книг, родив кучу детей и каждую ночь, из года в
год предаваясь с Ингрид безудержной любви, кроме тех ночей,
разумеется, которые ей приходилось проводить в родильных
приютах. Но надо было что-то говорить.
Я сказал, что когда-то учился у него. Он хмыкнул и уставился на меня
с презрительным сомнением. Я сказал, что уже учился в
докторантуре в другом университете, но по не зависящим от меня
причинам ее не закончил. Он выудил из кармана складной
швейцарский нож и принялся ковыряться в ногтях. Я подсунул ему свою
дипломную работу и оттиски двух своих статей. Он лениво
пролистал, посмотрел повнимательнее на список литературы и
вернул мне назад. Тогда я сделал то, что было строго
противопоказано делать, если бы я явился к любому другому профессору: я
сказал ему, что пишу и показал рукопись.
Он с любопытством погрузил в нее нос.
— Хорошо,— с усмешкой сказал он, перелистнув несколько страниц,—
традиционного ученого из вас не выйдет,— он кивнул на открытую
дверь кабинета, мимо которой только что прошествовал
профессор, читавший мне когда-то новейшую историю,— в том же
смысле, в котором его не вышло из меня. Но, по крайней мере, мне
не придется выправлять вам литературный стиль и нервно
подчеркивать красным карандашом, который всегда норовит
куда-нибудь запропаститься, грамматические ошибки. Что касается
исторической концепции, я не склонен придавать большого значения
факту ее наличия или отсутствия. Для вас не будет, полагаю,
откровением недопустимая в этих стенах крамола, состоящая в
том, что стиль рождает концепцию, а не концепция — стиль. И
то, и другое я понимаю, разумеется, в довольно широком
смысле. Итак, если вы уверены, что академическая степень облегчит
вам существование или если вам просто нужно два-три года
отсидеться, не защищаясь, хотя такой исход вряд ли будет
способствовать моему авторитету, можете сообщить в секретариате,
что я согласен взять вас в докторантуру. Да, не смущайтесь
запросить с места вашего поражения бумаги, вам зачтут сданные
там экзамены.
И ему, и Коре, быть может, единственным из моих знакомых, мнение
которых обо мне было мне не безразлично, понадобилось всего по
нескольку минут, чтобы оценить книгу, грустно заметил я. А
великая упорядоченность? А изысканная симметрия,
пронизывающая книгу? Ведь их нипочем не заметить при столь беглом
просмотре. Но я с самого начала не рассчитывал близко сойтись с
Айхенштоком: если между мной и миром стояла только моя
тоненькая книжка, то между мной и Айхенштоком, как между мной и
любым другим писателем, стояли также и все его романы. Мы
способны уважать друг друга через эту толщу бумаги, уважать и не
мешать. Спасибо, профессор Айхеншток!
В холле я заприметил карьериста-однокурсника, усердно изучавшего
какой-то никчемный плакат. Наверное, вот-вот защитится, подумал
я.
— Послушай, одолжи-ка мне денег,— сказал я ему,— верну с хорошим процентом.
Продолжение следует.
Оглавление романа Viva Fati:
- Via Fati. Часть 1. Глава 20. Что за книга?
- Via Fati. Часть 1. Глава 19. Стоит ли бегать от собственности
- Via Fati. Часть 1. Глава 18. Горе господина Вайнмайстера
- Via Fati. Часть 1. Глава 17. Победа господина Вайнмайстера
- Via Fati. Часть 1. Глава 16. Счастливчик
- Via Fati. Часть 1. Глава 15. Фабиан
- Via Fati. Часть 1. Глава 14. Монастырь
- Via Fati. Часть 1. Глава 13. Конец
- Via Fati. Часть 1. Глава 12. Тилли
- Via Fati. Часть 1. Глава 11. Праведник и блудница
- Via Fati. Часть 1. Глава 10. Измена
- Via Fati. Часть 1. Глава 9. Единственная
- Via Fati. Часть 1. Глава 8. Лиза
- Via Fati. Часть 1. Глава 7. Неожиданные открытия
- Via Fati. Часть 1. Глава 6. Триумвират
- Via Fati. Часть 1. Глава 5. Солнце прекрасного дня
- Via Fati. Часть 1. Глава 4. Греция
- Via Fati. Часть 1. Глава 3. К истокам того, чего никогда не было
- Via Fati. Часть 1. Глава 2. Что-то переменилось
- Via Fati. Часть 1. Глава 1. Поэт и его возлюбленная
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

