Несчастный Обломов (опыт субсистенциальной аналитики романа И. Гончарова «Обломов»)
Начала
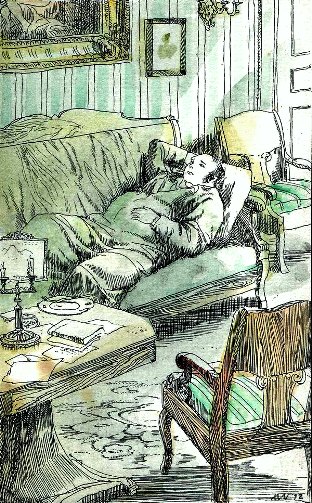 Роман И. Гончарова «Обломов» – произведение общечеловеческого мирового масштаба. Значение его столь велико, что интерес к нему со временем не только не угасает, но и неуклонно возрастает. Впечатляет и география распространения понятий образованных от слов «Обломов» и «Обломовщина». Коннотации их вошли в обиход многих смысловых пространств от повседневного фольклора до философских программ в категориях общественно-политического, национального и социально-исторического порядка. Имеются сайты, посвященные Гончарову и Обломову; написана масса текстов, интерпретирующих роман «Обломов»; на его основе создано большое количество произведений, описывающих двойников Обломова, снято фильмов, написано пьес и поставлено спектаклей. В повседневном фольклоре этих двойников называют скуфами или, на японский манер, хикикомори (хикки).
Роман И. Гончарова «Обломов» – произведение общечеловеческого мирового масштаба. Значение его столь велико, что интерес к нему со временем не только не угасает, но и неуклонно возрастает. Впечатляет и география распространения понятий образованных от слов «Обломов» и «Обломовщина». Коннотации их вошли в обиход многих смысловых пространств от повседневного фольклора до философских программ в категориях общественно-политического, национального и социально-исторического порядка. Имеются сайты, посвященные Гончарову и Обломову; написана масса текстов, интерпретирующих роман «Обломов»; на его основе создано большое количество произведений, описывающих двойников Обломова, снято фильмов, написано пьес и поставлено спектаклей. В повседневном фольклоре этих двойников называют скуфами или, на японский манер, хикикомори (хикки).
⇔ Иллюстрация к роману Ивана Гончарова "Обломов" Германа Мазурина.
Казалось бы, что можно сказать нового об Обломове?! Ведь, много уже об этом разного сказано и повторено на разных языках [Смирнова, Шюмман]. Однако зададимся вопросом: что сказано нового?
Добролюбов в своей статье «Что такое обломовщина?» выражает общепринятое мнение о лени, апатии, бездеятельности Обломова. Вот противоположный лагерь: А. Григорьев, В. Буренин. Они согласны с апатией, ленивостью барина, но отрицательным фактом-персонажем у них является Гончаров с его неправдой относительно ленивого русского народа: фантазии в угоду прогрессистов. Буренин называет Гончарова посредственным писателем, который ничего не создал правдивого [Буренин: 58-59]. Здесь же он для подкрепления своих слов цитирует Григорьева [Буренин: 98].
Социалисты-большевики, – борцы с великорусским шовинизмом, – интерпретировали апатию, лень так же, как и Добролюбов с той лишь разницей, что сделали из самого романа «Обломов» этакое пугало с претензией на революционный манифест. Они доказывали, что обломовщина – это то, что должно быть уничтожено революционным действием. Однако сам роман и автора его они на нюх не переносили. Причиной этому неприятию был, судя по всему, персонаж романа Михей Андреевич Тарантьев. Гончаров назвал его пролетарием, рассмотрел, как рассматривает биолог микроба под микроскопом со всех сторон и составил о своих наблюдениях подробный отчет (в первой части III главы романа). Но особенно подлила масла в огонь одиозного отношения большевиков к помещикам сцена из последней части романа, где Обломов отвешивает звучную оплеуху Михею. А сестра последнего, Агафья Матвеевна, высказывает простыми словами подлинный смысл «заботы» Тарантьева: «Опиваете, объедаете да еще лаетесь» [4, VII]. Так же, как и социалисты-большевики опознавали Обломова и иностранцы (на литературу XIX века в России их влияние было огромным), как российские, так и зарубежные. Обломов для них как «знаменитый русский лежебока» (Шюмман) олицетворял весь русский народ. Как напишет С. Цвейг в «Торжестве инерции»: «Речь идет о человеке, который опускается, мельчает, опошляется и умирает» [Цвейг; 9].
К указанным выше темам добавляются психиатрические интерпретации апатии, начатые Ф. Достоевским романом «Идиот». Выписывая двойника Обломова в образе князя Мышкина, он изложил свою идею о том, что человек – это только тогда, когда он ратует за общечеловеческое счастье. Такое «безумие», по его мнению, может прийти в голову только идиоту, потому что обычные нормальные люди все сплошь и рядом ненормальные, и только ненормальный идиот князь Мышкин с нравственной стороны нормален. И. Беляева цитирует Ф. Достоевского из их диалога с М. А. Александровым: «…Только мой идиот лучше гончаровского... Гончаровский идиот – мелкий, в нем много мещанства, а мой идиот – благороден, возвышен»» [Беляева: 460].
В специальных словарях психиатрических терминов давным-давно прописались и «синдром Обломова» и «комплекс Обломова»; они тесно связаны с безволием, апатией, депрессией, ленью, дезинтегрированным Я (невротической моделью поведения) [Рогачева: 27] и пр. Даже GigaChat в приложении MAX генерирует тексты по запросу о болезни Обломова такого вот содержания: «Что же такое болезнь Обломова? Это не какая-то там инфекция или вирус, а скорее состояние души: вечная апатия, нежелание двигаться вперед, страх перед переменами и тотальная любовь к покою и уютному пледику и т. п. #Обломов #лень #мотивация #изменисьсегодня. Создано с помощью GigaChat».
Психические болезни Обломова в самом романе поименованы так: нравственная болезнь, нравственное рабство, духовная болезнь (Ольга пытается спасти «безнадежного больного», «нравственно погибающий ум, душу»), болезненное психическое состояние. Разумихин со ссылкой на книгу Лощица «Гончаров» прямо анализирует болезнь Обломова, которую он сводит к неврозу, называя Илью Ильича невротиком [Разумихин]. Однако Лощиц в своей книге болезнью называет и жизненную активность штольцевского типа. А бездеятельность и лень Обломова интерпретирует в духе античной философии абсолютного покоя, абсолютного бесстрастия, отсутствия движения.
Таким образом, в истории литературоведения эклектизм относительно публичного образа Обломова, в рамках которого существует множество интерпретаций, превратился в аранжировку хорошо известной апатичной мелодии.
Сама структура аналитики текстов доселе предполагает анализ того о чем идет речь в известном положении дел описываемых в произведении, даже если то, о чем идет речь прямо не оговорено, но предполагается известным для всех участников этого самого положения дел. Иными словами, апатия известна всем, несмотря на то, что она прямо не поименована в романе. Однако как пишет Бернштейн: «Полностью семантизируя так называемые несемантические аспекты языка, Инман создает диалектику обратимого/невозвратного, в которой то, что не может утверждаться, все равно остается наиболее проявленным.» [Бернштейн: 18]. И в другом месте:
Субсистенциальная аналитика
Субсистенциальная аналитика (sub_sist аналитика) публичного образа произведения анализирует то, что поддерживает благодаря самому себе (subsisetere) семантическую устойчивость текста, делая его таким образом абсолютно-автономным объектом. Его однокоренной sub_sist[1] поддерживает устойчивость произведения наподобие того, как не_сущие фундаментные блоки поддерживают дом или корневая система дерева поддерживает дерево. Такое формирование становления смысла дает возможность представить иную точку зрения на sub_sist, как на семантическое подсуществование не только положения дел произведения, но и семантики того, о чем идет речь в этом положении дел, которая является иррелевантной для окружающей среды описанного автором положения дел. Поиски его и образуют корневую систему sub_sist аналитики. Это дает возможность представить иную семантику sub_sist(а) романа «Обломов», а именно, как становление смысла не только положения дел, но и становления смысла в нем того, о чем в нем идет речь.
Из этого следует, что субсистенция единичного объекта не замыкается своим собственным существованием, как это происходит в экзистенциальном анализе произведений, где смысл текста анализируется через положение дел жизни автора, обстоятельств его собственной судьбы и пр. Субсистенциальная аналитика произведения не следует этим путем. В силу того, что sub_sist объекта связан незримыми нитями со всеми универсальными глобальными общечеловеческими ценностями.
Мы говорим: все что есть – абсолютно-автономные объекты (ААО). Роман «Обломов» является таким объектом. Sub_sist аналитика занимается этнографией публичного образа этого ААО. Аналитика его берет к осмотру оригинальный текст произведения. Анненский указал на то, что сам Гончаров запрещал публиковать его дневники и переписку, ибо считал, что его идеи необходимо изымать из его произведений, над которыми он много времени тяжело раздумывал [Анненский].
Публичный образ ААО – это тело множественной семантики. Она распространяется не только на ограниченную эссенциально реферальную область применения наук, – где, например, уникальность объекта определяется уникальной циркуляцией референций, в которых он обращается, – но и на косвенные области, лежащие за пределами любых даже возможных референций.
Поэтому субсистенциальная аналитика является методикой разыскания в публичном образе романа «Обломов» семантически устойчивого в описанном положении дел, но не осуществленного в сознании sub_sist(а). Никто, ни автор произведения, ни его персонажи, ни критики-современники не должны знать о том, что в произведение субсистирует для всех неизвестный и никак не поименованный в нем sub_sist.
Конечно, мы дальше увидим, что здесь мы столкнемся с reductio ad absurdum описанного в романе положения дел. Логический одноименный прием доказывает несостоятельность какого-либо мнения, но в нашем случае мы через посредство reductio ad absurdum докажем и истинность найденного sub_sist романа и распространим кажущееся несоответствие на иные логически значимые семантические пространства. Сразу скажу, пока это возможно только лишь в историческом анализе, с точки зрения настоящего, смотрящего в прошлое. Подробнее с субсистенциальной аналитикой, формирующей субсистенциальное суждение, можно ознакомиться в моей книге «Субсистенциализм».
В «Введение в субсистенциализм» я показал множественные семантические реальности субсистенций. У них как есть и свои собственные реальности, так и сама субсистенция имеет множественную реальность. По этой именно причине субсистенциальная аналитика любого объекта занимает приличное количество и времени и места. Она в общем и целом не умещается в границы отдельной статьи. Здесь я сформулирую результат, к которому пришла аналитика романа «Обломов».
Аналитически рассматривать объект это значит не только расчленение его на части, для последующей сборки в новой форме, а следование за аргументами, даже если непонятно, куда они ведут. Sub_sist аналитик доверяется объекту, прокладывая путь в абсолютной темноте. Бродить по различным местам, удалятся в пустоши и сбегать оттуда, следовать логическим ходом в нелогических условиях, понимать метаязык несоответствий, выпадать в осадок, бросать дело на полпути, возвращаясь у началу. Вот работа аналитика художественного текста.
Атеросклероз Обломова
Итак, как говорится, с места – в карьер! «Обломов» – это роман о тяжелобольном человеке – помещике Илье Ильиче Обломове. Он болеет физическим заболеванием, атеросклерозом, во время написания романа никому неизвестном, даже автору его. Нужно принимать на веру слова самого Гончарова, сказанные им в статье «Лучше поздно, чем никогда», о бессознательности результатов его творчества. Это правда. Бессознательность здесь есть факт незнания, как основной элемент, помимо связанности очевидных знаний, составляющих конструкции цельных публичных образов.
Встретившись с незнакомым объектом, творческий человек имеет жажду познать его целиком. Так возникает замысел, а за ним – произведение искусства. Насколько близко подошел творец к соответствию идеи с объектом, настолько же истинно произведение со всеми своими персонажами.
Нет и не может быть в художественных произведениях лишних ролей, ненужных сцен, просто событий, вписанных в ткань повествования с неизвестной целью. Все имеет значение. Особенно то, на что не обращается внимания: иррелевантное, какое-то абсурдное явление, ерунда, нечто бестолковое, никаким образом не объясненное, будто бы нечто закинутое в сюжет ради банальной связки слов в предложении. Этим необъясненным нечто в романе является атеросклероз, приковавший Обломова к дивану.
Но не только Гончаров не имел представления о роде физического недуга, свалившего Обломова, но и первые критики романа также не могли себе представить его заболевания. Добролюбова теперь можно понять. Его восприятие романа укладывается во вполне закономерное и логичное общественное мнение, составленное из самой сути многообразной общественной мысли середины XIX века, а именно – неспособность обломовых жить собственным уменьем, поэтому они существуют за счет других или благодаря другим. Однако известный критик виновен в том, что не пошел за своим аргументом и не задался вопросами: что конкретно означает жить за чужой счет и что конкретно заставило в самой природе Ильи Ильича существовать благодаря другим? Именно в его природе, в его личности, в его индивидуальности!
Атеросклероз Обломова переворачивает центральную ветвь романа с ног на голову. Добролюбов уже не может утверждать, что детство, родители или образ жизни сделали Обломова таким пассивным, ленивым и апатичным, поскольку это все внешние факты, роль которых в формировании личности/индивидуальности нужно еще трудно скрупулезно доказывать. Здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд. Если бы Добролюбов отбросил внешние факторы, он бы не пришел к аутентичной болезни Обломова, ибо она ему (и никому вообще на тот момент) неизвестна. Она не тиф, не холера, не чума; температура от нее не повышается, цвет лица не имеет болезненного оттенка, глаза чистые, настроение не портится, а если и портится, то несерьезно, Обломову от этого только лишь как-то легко и весело. На пациента он здесь никак не походит. Однако он как есть тяжелобольной человек! И вся критика оказывается решает задачу со всеми неизвестными, ибо то, что известно не годится для решения неизвестного.
И Гончарова в подобном положении дел никак нельзя винить, поскольку и он сам ни сном, ни духом не ведает об обломовском заболевании.
Цвейг начал выше упомянутое эссе «Торжество инерции» фразой: «Законы физической жизни почти всегда сходны с законами литературы». Это означает, что литература не обязательно должна быть психическим обобщением физиологических процессов или того хуже – психологическим обобщением психических феноменов. Ведь, помимо психических, душевных, нравственных, умственных болезней современные медики диагностируют у Обломова и физиологические заболевания: для гастроэнтерологов Обломов – яркий пример пациента с ожирением и ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь); также у него обнаруживают гипотиреоз — недостаток гормонов щитовидной железы, вызывающий сонливость, отеки, – функциональную диспепсию (синдром диспепсии) и пр. Весь этот далеко неполный список заболеваний был у Ильи Ильича уже в 32 года. С ними и без медицинской помощи он умудрился как-то дожить до 42 лет!!! Критики видели причину этих физических заболеваний в малоподвижном образе жизни Обломова, в воспитании, обычае быта и т. п. Но факт состоит в несколько ином sub_sist(е) романа.
Симптомы и жалобы
Предлагаю послушать жалобы самого Обломова на свое здоровье. Заметим, что эти жалобы Гончаровым даются вскользь, как фигуры речи для продолжения разговора, или как ежедневный ритуал вполне здорового человека, привыкшего примеривать на себя образ больного... так, на всякий случай, чтобы никто ничего не подумал. Но это, однако, первое впечатление, которое всегда обманчиво. Жалуется Илья Ильич вот на что. Все, что будет сказано ниже о заболевании Обломова (симптомы, диагноз), будет взято из реальной медицинской карты реального больного. Этот человек страдает одним и тем же с Обломовым физическим заболеванием. Поэтому мне не трудно описывать его болезнь. Врачи, конечно, могут найти здесь некоторые несоответствия. Это естественно, я не доктор. Точность в нашем вопросе не сама цель. В общем и целом речь идет именно о том, о чем я скажу ниже.
1) Стресс на службе. Два года на службе Илья Ильич провел в жутком состоянии страха и трепета перед начальником [1, V]. Это говорит о беспричинных панических атаках.
2) Три перенесенных инсульта.
3) Постоянный озноб, ощущение холода даже в теплой обстановке [1, II] может указывать на сердечно-сосудистые патологии и болезни кровообращения.
4) Приливы [1, II] сопровождаются повышением сахара в крови, сахарном диабете. Возможно, обнаруживается и безболевая ишемия миокарда как у людей страдающих сахарным диабетом. Также здесь могут быть проблемы с циркуляцией крови по телу, которые сопровождаются флюксами (приливами, притоками) крови к головному мозгу и рефлюксами (отливами, оттоками) крови от мозга [Ручко: 2025]
5) «Желудок почти не варит, под ложечкой тяжесть, изжога замучила, дыханье тяжело... – говорил Обломов с жалкой миной». Подобными симптомами может сопровождаться и сердечнососудистые заболевания.
6) Ячмени [2, III] как добавление к п.4 указывают на сахарный диабет.
7) Онемение левой ноги [4, VI] связано с поражением сосудов.
8) На пике эмоционального возбуждения у Обломова возникает жжение за грудиной в районе сердца, учащается пульс, увеличивается частота сердечных сокращений; за грудиной ощущается присутствие лишнего объекта; становится тяжело дышать; появляется боль в районе сердца слева [2, V].
Предположительный диагноз
Как я уже говорил, Гончаров несерьезно вводит в сюжетную линию физическое заболевание Обломова. Он попутно заявляет, что лежанье на диване у Ильи Ильича не было необходимостью, как у больного, а было его нормальным состоянием [1, I]. В романе болезнь его описана в некоем «Свидетельстве», которое якобы Обломов прислал в адрес его места службы. В нем помимо прочего указывалось: ««Я, нижеподписавшийся, свидетельствую, с приложением своей печати, что коллежский секретарь Илья Обломов одержим отолщением сердца с расширением левого желудочка оного (Hypertrophia cordis cum dilatatione ejus ventriculi sinistri), а равно хроническою болью в печени (hetitis), угрожающею опасным развитием здоровью и жизни больного, каковые припадки происходят, как надо полагать, от ежедневного хождения в должность» [1, V].
В шутовском «Свидетельстве» нет никакой шутки. Гончаров вполне серьезно посредствам него в публичном образе Обломова имплицирует наличие физической болезни, которая делает из героя романа тяжелобольного человека. Причем заболевания у него тяжелые (как указано в свидетельстве): гипертрофия сердца с увеличением левого желудочка и гепатит. Рассмотрим этот факт.
Мы останемся на стороне пациента, а не врачей. Не будем оспаривать их исключительное право разносить людей по столбцам «больной» и «здоровый», формируя нормальность в области здоровья человека, и даже влиять на поведение и больных, коим прописан постельный режим и здоровых, коим обязательно предписывается двигательная активность.
И сразу же я заявляю, что диагноз, поставленный выше, лишь предположение, указывающее на то, что Обломов по-настоящему болен. Просто представим себе вполне натурально Обломова, действительно претерпевающего описанные выше симптомы и в самом деле страдающего атеросклерозом. Поверим, наконец, на слово человеку! Избавимся от свойственного нам генетического неверия словам его!
Если бы Илья Ильич обратился в современный кардиологический центр, то ему бы провели разностороннее обследование, включая тредмил-тест и коронарографию, обнаружили бы стенозы коронарных сосудов сердца, и поставили бы приблизительно следующий диагноз: Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Стенокардия напряжения 3 или 4ФК. Нарушение ритма сердца по типу предсердной экстрасистолии. Гипертоническая болезнь, риск 4 (очень высокий): осложнения холестеринемии и рекомендовали бы провести реваскуляризацию миокарда – стентирование ветвей коронарных артерий. Причиною такого состояния оказались атеросклеротические бляшки, которые сузили просветы в ветвях артерий (в нескольких местах) более чем на 90%. При этом имеет место повышение кровяного давления, жжение в левой стороне грудины, панические атаки, высокая частота сердечных сокращений, боли в ногах (в пояснице, коленях и стопах) при ходьбе.
Если все так и было с Обломовым, то в таком состоянии принять вертикальное положение ему было бы возможно исключительно с ухудшением самочувствия, потому что при стенозе коронарных артерий болезненные ощущения возникают в момент активности и затихают в момент приобретения телом спокойного состояния.
Конечно, курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни Обломова, частый дневной сон, питание с преобладанием в рационе жирной пищи, мучного, сладкого не могли не образовать атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Высококалорийная пища сама по себе ухудшает показатели плохого холестерина, а вкупе с отсутствием активности однозначно повышается не только уровень плохого холестерина, но и уровень триглицеридов. Современная медицина установила бы Обломову в артерии стенты, прописала ему пожизненное применение медикаментозных препаратов для снижения уровня плохого холестерина, профилактики тромботических осложнений, уменьшения частоты сердечных сокращений, а также препараты антигипертензивного действия, поставила бы его под наблюдение врача-кардиолога, «посадила» на диету, «заставила» заниматься спортом, и он бы продолжал жить.
Но в «Обломове» события разворачиваются в середине XIX века, в котором медицина не была столь продвинута, как сегодня, хотя доктор Обломову и заявляет, что «медицина шагнула далеко вперед». Можно даже утверждать, что у Обломова не было атеросклероза, потому что в его время не знали, что такое атеросклероз (о нём узнали в начале XX века, благодаря Аничкову Н. Н.). Отсюда мы понимаем, что в жизни Обломова со всем его окружением присутствует (имеет место) никем из участников незнаемое нечто, которое по общему правилу следует называть несуществующим объектом по причине его невозможной идентификации целым сознанием, но что является корнем жизни Обломова.
И вот что получается в итоге: не знающие о настоящей болезни Обломова его знакомые и друзья захаживают к нему в гости... и зовут 1 мая в Екатерингоф кататься на лошадях; называют его сибаритом, колодой, ленивцем... осуждают его асоциальный образ жизни. Такая позиция должна обратить на себя внимание. Получается, мы приходим к тяжело больному и требуем от него невозможного. А этот тяжелобольной не может нам поведать об этом, потому что сам ни сном, ни духом не знает, что с ним происходит, да и мы его не слушаем совсем. Нас более интересует то, что мы говорим, а не то, что говорят нам. И дело совсем не в том, что другим неизвестны заболевания Обломова, а в том, что они в другом их не чувствуют, не ощущают, не обращают на этого другого с его болезнью никакого внимания, поскольку внешне они (болезни) у него не обнаруживаются. Это даже дает право критикам называть Обломова ущербным: так они бессознательно раскрывают свое негативное отношение к больным людям.
Однако наблюдаем картину конкретно и прямолинейно. Она выглядит так: к тяжелобольному Обломову приходят люди и ведут с ним беседы различного содержания. Они все сгруппированы в факт предъявления Обломову всяких разных требований и претензий. Доктор, к примеру, прописывает Илье Ильичу больше бывать на свежем воздухе, ходить по восемь часов в день! – на охоте, например, – ездить на лошади, вести активный образ жизни, что подразумевает поездки заграницу, посещение балов, театров, шумных вечеринок, принятие минеральных вод, лечение виноградом и прочее [1, VIII]. После визита доктора к нему заглянет Штольц и будет требовать, чтобы Илья Ильич сбросил с себя жир, тяжесть тела и приступил к телесной и душевной гимнастике. По поводу Ильинской и остальных громко промолчу.
Как мы понимаем, эти советы-рецепты совершенно неисполнимы Обломовым. С этой позиции мы должны наблюдать положение дел в романе. Если Обломов тяжело болен, то все, о чем идет речь по поводу положения дел в романе, обращается в другую сторону (diversus). Теперь никак нельзя следовать логике Добролюбова о помещении Обломова в общество «лишних людей». Базаров, Онегин, Печорин, во-первых, вполне себе здоровые люди, во-вторых, стоят выше общества, в-третьих, обвиняют общество в том, что они стоят выше него. Они свои недостатки выдают за достоинства. А у Пушкина по поводу отношения к больному все предельно конкретно сказано в первых строках «Евгения Онегина».
Обломов – другое дело. Он как физически больной человек придавлен этим самым обществом тем, что оно требует от него того, чего он ввиду физической неспособности не в силах исполнить. Что значит «сбрось с себя прежде жир»? Попробуйте со стенозом артерий сбросить жир и «тяжесть тела»! Очень сомневаюсь, что это возможно. А к Базарову, Онегину и Печорину подобный совет и вовсе не относится.
Добролюбов, конечно, делает упор на другом факте. Он не обращает внимания на заболевание Обломова, а прямиком идет к следствию его болезни. Он обвиняет Обломова в том, что он сам ничего не умеет делать, что он живет за счет других или не живет, выражаясь субсистенциальным языком, благодаря самому себе (subsistere). Добролюбов пишет: «Но гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других – развила в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства» [Добролюбов]. С точки зрения тяжелобольного Обломова такой пассаж кажется напыщенным и абсурдным. Да и собственно весь роман теперь, если принимать Обломова за больного человека, следует относить к литературе абсурда. Слово абсурд происходит от лат. ab surdus — «от глухого (ответ глухого)». В «Обломове» никто никого не слышит, все персонажи глухи к страданиям другого. Однако не только в этом дело.
Следует проанализировать сущность «гнусной привычки» Обломова. О ней говорит в романе сам Илья Ильич (1, VIII), когда разъясняет Захару, чем он отличается от других.
«— Что такое другой? — продолжал Обломов. — Другой есть такой человек, который сам себе сапоги чистит, одевается сам, хоть иногда и барином смотрит, да врет, он и не знает, что такое прислуга, послать некого — сам сбегает за чем нужно, и дрова в печке сам помешает, иногда и пыль оботрет…
— Из немцев много этаких, — угрюмо сказал Захар /… /
— А я, — продолжал Обломов голосом оскорбленного и не оцененного по достоинству человека, — еще забочусь день и ночь, тружусь, иногда голова горит, сердце замирает, по ночам не спишь, ворочаешься, все думаешь, как бы лучше… а о ком? Для кого? Все для вас, для крестьян, стало быть, и для тебя. Ты, может быть, думаешь, глядя, как я иногда покроюсь совсем одеялом с головой, что я лежу, как пень да сплю, нет, не сплю я, а думаю все крепкую думу, чтоб крестьяне не потерпели ни в чем нужды, чтоб не позавидовали чужим, чтоб не плакались на меня господу богу на страшном суде, а молились бы да поминали меня добром. Неблагодарные! — с горьким упреком заключил Обломов».
Из этого диалога и по факту описанного Гончаровым положения дел следует, что именно другие персонажи романа экономически существуют благодаря другому – Обломову. Его челядь находится у него на обеспечении, со смертью Обломова Захар и вовсе остается нищим; старосты с сотоварищами-жуликами обворовывают его, крепостные Обломовки скрывают результаты своих трудов, ничего не делают или делают что-либо спустя рукава, а Штольц после смерти Ильи Ильича становится этаким регентом сына Обломова и получает в управление Обломовку. Повсюду ложь и обман! Поэтому Добролюбов в своей статье несколько слукавил, подстроив свою теорию под интересы общественно-социальной обстановки того времени. После карикатурного изображения идеи романа он карикатурно изображает реальность.
А вообще, к слову сказать, на больных людях другие люди недурственно зарабатывают. Экономическая политика оказывается умением здоровых людей извлекать выгоду из болезненной необходимости людей больных. Медицина, здравоохранение, фарминдустрия – это финансовые монстры, зачастую занимающиеся «грязным маркетингом», как, например, семейка Саклер, подсадившая США на наркотические опиоиды [Киф].
Болезнь в романе появляется не для красного словца. Не сам Гончаров писал роман о больном человеке. Сама болезнь Обломова двигала рукою автора, когда он писал его. А болезнь эта весьма примечательная вещь «Обломова», она его sub_sist – корень не только произведения, но и вообще русского бытия, в котором и доселе тяжелое заболевание человека приводит его к утрате смысла жизни. Гончаров бессознательно писал о том, чего нет в России, и без чего в ней все время будет нецивилизованно. И это отсутствующее в ней есть гуманное отношение к больному человеку (забота), и как христианский идеал рыцарства (орден госпитальеров) и как западный проект цивилизованного общества, основанного на гуманном отношении общества к больным людям. В этом я вижу идею западничества в романе «Обломов».
Михаил Угаров в пьесе «Смерть Ильи Ильича» по мотивам романа «Обломов» обыгрывает тему болезни Обломова. Он отрицает душевный вид болезни Ильи Ильича, описывая психологию энантиодромии. В пьесе по итогу сходит с ума доктор, который пытается лечить душевный недуг Обломова – диагноз, который сам же он ему и поставил, несмотря на то что Обломов отрицал наличие у себя душевной болезни.
Болезнь Обломова в пьесе не душевный недуг, а любовь. Я бы сказал: приступ стенокардии. Не поэты придумали любовь, а больные люди. Они нуждаются в заботе, которая невозможна без любви.
В цивилизованном обществе больной становится объектом заботы. Пребывание больным обращается в особую роль. Ему не нужно больше что-то делать, для того чтобы продолжать жить; наоборот, когда больной человек больше времени «отдыхает», тогда это снижает риск того, что он преждевременно умрет. Да и с точки зрения отношения энтропии и гомеостаза состояние сна более предпочтительно, чем состояние бодрствования. При этом указанный вид заботы прямо выгоден обществу и потому, по сути, определяет цивилизованность самого по себе общества.
Физиология общественной жизни в России со времени написания «Обломова» нисколько не изменилась в смысле взаимоотношений здоровых людей с больными. Больной человек – это жертва своей болезни и потому остается с ней один на один. Такою логикой руководствуется нецивилизованное общество, инкорпорируя в свою ментальность власть культа здоровой личности, что само по себе ничего не значит, поскольку всякая здоровая личность периодически становится больной.
При этом такая ментальность радикально отрицает политику, направленную на сбережение прав, скажем, и больных, и жертв. Это особенно заметно в социальной инфраструктуре, а еще более – в практике применения законов, где клеймо «жертва» аннигилирует законные права жертв преступлений: права преступников соблюдаются в таких обществах с куда большим усердием, чем права жертв. А убиенные люди даже в загробной жизни не дожидаются справедливого возмездия. Дело сделано, полагает власть предержащая, человека уже не спасешь, что о нем заботиться. Пусть и в самом деле, как говорится в Писании, «мертвые сами хоронят своих мертвецов», а мы последуем дальше. Поэтому и получается, что путь следования такого общества устлан трупами; мертвечина – вот его след.
Потому что у Гончарова говорится еще и о том, что здоровый нормальный человек не способен любить, как это может делать поэт, который по мысли Рембо приходит к этому «через длительное, тотальное и продуманное расстройство всех чувств». Здоровый нормальный человек вообще не догадывается о том, что это такое, поскольку у него не может быть любви ни в виде тотального расстройства чувств, ни как приступа стенокардии. Для здоровой плоти физические страдания другой плоти – пустой звук. Ей бесполезно объяснять, как ощущается непроходимость крови по сосудам, сокращающая ее циркуляцию. Таким образом, все дороги ведут к телу… больному телу, страдающему тяжелым заболеванием… на период написания романа – смертельным заболеванием. Обломов изначально был обречен. Весь роман – это описание человека, который находится при смерти, и всем, кто окружает его, на это наплевать.
Обломовский рефлюкс
В «Обломове» имеется одна очень важная мысль – никто никого не понимает, как говорит Гончаров в романе: «Оба они перестали понимать друг друга, а наконец каждый и себя». Причина отсутствия гуманного отношения к больным в России, по мысли Гончарова, кроется в неспособности русских людей отличить здорового человека от человека страдающего тяжелым недугом.
Да и вообще проблема русской ментальности заключается в отсутствии способности различения. В ней все слипается в одно, которое неизвестно что собою представляет, но которое по образу и подобию себя определяет все остальное многообразное разнообразие. Эта слипшаяся в комок субстанция ума ненавидит другое, зачастую стремясь уничтожить смертоубийством любое различие. Отсюда, между прочим, проистекает гражданская война. Люди просто не могут организовать связь с иным положением дел, иным мышлением, иной реальностью.
Но вот парадокс: сюжетная линия романа от этого не страдает бессмыслицей. Вот доктор рекомендует ходить по 8 часов в день. По современным медицинским данным для профилактики и лечения атеросклероза это является практически единственным средством избежать образования бляшек на стенках сосуда. Сегодня уже есть масса медицинских исследований, которые указывают на то, что атеросклеротические бляшки образуются от малой скорости циркуляции крови в кровеносной системе. Причем одинаково опасны и малая и высокая скорости. Баланс циркуляций электрических жидкостей (ЭЖ) и есть то, что называется здоровым образом жизни. Доктор из романа «Обломов» доподлинно знать этого не мог.
Ольга Ильинская со Штольцем, заставляя Обломова отправиться в Обломовку, подспудно руководствовались не необходимостью Илье Ильичу устраивать свои дела в деревне, а бессознательно рекомендовали ему отправиться туда для поддержания своего здоровья физической активностью, экологическим бытием.
Такие вот «дырки»[2], неправильности в художественном тексте и вообще в искусстве, по мнению Ю. Лотмана, обеспечивают аксиологию произведения.
Мы отметим здесь, что в романе «Обломов» прописана именно циркуляция электрической жидкости на интерьере публичного образа Обломова (см. мою статью «Циркуляционная теория связи сознания (ЦТСС)»). Флюксовая (флюкс) сторона циркуляции относится к публичному образу Штольца, а рефлюксивная (рефлюкс) – к Обломову. Вот описание обломовского рефлюкса (погасания у Гончарова) и штольцевского флюкса (в факте его отсутствия выраженного отрицательными величинами) в романе:
«– Знаешь ли, Андрей, в жизни моей ведь никогда не загоралось никакого, ни спасительного, ни разрушительного огня? Она не была похожа на утро, на которое постепенно падают краски, огонь, которое потом превращается в день, как у других, и пылает жарко, и все кипит, движется в ярком полудне, а потом все тише и тише, все бледнее, и все естественно и постепенно гаснет к вечеру. Нет, жизнь моя началась с погасания. Странно, а это так! С первой минуты, когда я сознал себя, я почувствовал, что я уже гасну! Начал гаснуть я над писаньем бумаг в канцелярии; гаснул потом, вычитывая в книгах истины, с которыми не знал, что делать в жизни, гаснул с приятелями, слушая толки, сплетни, передразниванье, злую и холодную болтовню, пустоту, глядя на дружбу, поддерживаемую сходками без цели, без симпатии; гаснул и губил силы с Миной: платил ей больше половины своего дохода и воображал, что люблю ее; гаснул в унылом и ленивом хождении по Невскому проспекту, среди енотовых шуб и бобровых воротников, – на вечерах, в приемные дни, где оказывали мне радушие как сносному жениху; гаснул и тратил по мелочи жизнь и ум, переезжая из города на дачу, с дачи в Гороховую, определяя весну привозом устриц и омаров, осень и зиму – положенными днями, лето – гуляньями и всю жизнь – ленивой и покойной дремотой, как другие… Даже самолюбие – на что оно тратилось? Чтоб заказывать платье у известного портного? Чтоб попасть в известный дом? Чтоб князь П* пожал мне руку? А ведь самолюбие – соль жизни! Куда оно ушло? Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится, а лучшего я ничего не знал, не видал, никто не указал мне его. Ты появлялся и исчезал, как комета, ярко, быстро, и я забывал все это и гаснул».
Рефлюксивная циркуляция ЭЖ (РЦЭЖ) энактирует[3] инфлюацию. В ней цель однозначно не дана, как во флюксе, потому что отток рефлюкса не сконцентрирован на цели, не интенциализирует ее. Она (РЦЭЖ) проникает внутрь через множественные поры, микротрещины, воронки, каналы плоти; она пропитывает собою тела губки или фитиля бензиновой зажигалки; она то, что абсорбирует инфлюационную диффузию в имманентном поле референций, энактируя в них объективирующую потенцию subsistere.
Если представить психотип Обломова, основанный на состоянии РЦЭЖ, то его на современный манер необходимо обозначать асексуальным типом. Во флюксе его сексуальное либидо резко мгновенно вспыхивает в направлении Ильинской. Эта вспышка кратковременна. Она сменяется абсолютным охлаждением либидо до степени его отсутствия. Обломову сексуальное либидо становится совершенно безразличным, неинтересным. Асексуала Обломова сексуальное наслаждение не наслаждает.
Поэтому инфлюация переступает через феномены активности и пассивности. Не субъект Обломов пассивно воспринимает внешние данности, являющиеся ему, а сами данности явлений, наподобие половой любви, произвольно текут по своим руслам, встречая на пути Обломова и протекая сквозь него в нем решительно не задерживаясь, не оставляя никаких субъективных следов после себя, как будто Илья Ильич все еще находится в пренатальном периоде, где его циркуляция ЭЖ инкорпорирована в циркуляцию ЭЖ его матери.
С внешней стороны РЦЭЖ создает пустыню, сухую поверхность, пересохшее русло реки. Барт пишет: «Читателя Текста можно уподобить праздному человеку, который снял в себе всякие напряжения, порожденные воображаемым, и ничем внутренне не отягощен; он прогуливается (так случилось с автором этих строк, и именно тогда ему живо представилось, что такое Текст) по склону лощины, по которой течет пересыхающая река (о том, что река пересыхающая, упомянуто ради непривычности обстановки)» [Барт Р. От произведения к тексту].
У инфлюации нет цели, нет намерений, нет конструкций, нет структуры. Выражаясь современным языком ботаников, после нее возникает dieback (букв, отмирание) – эквивалент русского термина «суховершинность» – постепенное отмирание вершин деревьев, приводящее к умиранию всего дерева, включая его корни. «Таким образом, пытаясь самосохраниться, общество-дерево будет лишь самоиссушать себя» [Вудард, 45]. Вудард, ссылаясь на Нагерестани, не учитывает инфлюацию ЭЖ. Он фактом заражения человека вирусами обосновывает активный динамический характер атакующей людей, пожирающей мертвые тела, болезнетворной органической слизи, в чем он отыскивает определенный ужасный замысел против человечества. Однако любой акт биологической жизни имеет двойственную природу: тромбоз – это защитный механизм организма, служащий для остановки кровотечения из ран, но который в иных обстоятельствах убивает этот организм, иначе – прерывает циркуляцию ЭЖ.
По мысли Гончарова «иссушение» внешнего мира, его обесценивание в угоду утверждения индивидуализма есть необходимое условие подлинной жизни человека, даже если этот самый человек не ведает об этом. У такого человека, однако, по ходу жизни возникает масса проблем. Путь его устлан непониманием, недоверием, оскорблением, высмеиванием, абьюзом со стороны других и преждевременной смертью по причине отпадения от подпорок внешнего мира, которые, по мнению многих, поддерживают гомеостаз организма. «Жизнь всякого существа представляет собой сложное взаимодействие с окружающей его средой. Организм, не способный реагировать на внешние воздействия и к ним приспособляться, неизбежно погиб бы» [Лотман, 8]. И это происходит даже в вакууме моральной ответственности, потому что он ничего плохого никому не делает и ничего плохого в жизни не совершает. Сама мысль о плохом поступке для него болезненна. Обломов мечтает о простом человеческом счастье. Путь, который ведет к нему, ему неведом.
Закругления
Слово «закругление» заключает в себе семантику универсальности. «Давайте закругляться!» – это означает завершать что-либо; «сглаживать углы» означает обходить проблемные места в диалоге, отношениях. Уроборос, как бесконечность круга, есть и истина, и то, что следует преодолевать, поскольку философы считают бесконечность круга в доказательствах сущим сумасшествием, а с социологической точки зрения, напротив, циркуляция как аналогия потока закруглений является основанием самого по себе социального, вернее социальных связей, которые постоянно циркулируют.
Sub_sist аналитика – это творческий акт абсолютно автономного объекта. Он состоит из двух глобальных целостностей. Первая – субсистенциальное суждение (онтологическое положение дел – субсистенция). Вторая – sub_sist аналитика (эпистемология того, о чем идет речь в онтологическом положение дел, сущностная субсистенция). Интермундия (междумирье) здесь заполнена методологическими поисками возможной аксиологии такого объекта.
В романе соединены в пучок все многообразие публичных идей-образов, существующих не только во времена Гончарова, но и пребывающих во всеобщей истории человечества, а именно:
1) Христианство. Обломов тяжело болен. Иисус приходит не к здоровым, а к больным. Обломов молится.
2) Философия. Эпикура постоянно мучили желудочные колики. Избавлялся он от них не только простоквашей, но и упражнениями в философии. Так он отвлекался от боли плоти. Кант утверждал, что другая вещь в себе не постигается разумом, равно как и для других недоступно понимание физического заболевания Обломова.
3) Общесоциальный элемент. Для того чтобы общество считалось цивилизованным у него должны быть развиты институты заботы, основанные на любви. А для осуществления этого идеала обществу необходимы и больные (физически неспособные, ограниченные) люди, и здоровые, которые способны энактировать заботу. При этом люди не просто делятся на здоровых и больных, поскольку в жизни каждого человека состояния болезни и здоровья чередуются.
4) Смысл болезни Обломова. В обществе своего времени он остается один со своей болезнью. Она для него – подлинный другой, с которым он проводит все свое время. Но положение дел таково, что в жизни Обломова забота энактируется Захаром и Пшеницыной. Они энактируют собою христианский идеал милосердия.
5) Смысл смерти Обломова. Илью Ильича невозможно представить в нормальной комфортной общественной жизни. Он умирает, только-только начав нормально жить. Но это начал жить не Обломов, а кто-то другой, похожий на известных персонажей романа. Поэтому Обломов умирает.
Но основным субсистентом романа является атеросклероз. Дело в том, что наличие несуществующего для сознания объекта в онтологическом положении дел говорит о необходимости экстраполировать эту самую энактацию на любое положение дел субсистирующее во всех возможных мирах… например, на наше современное время, в том числе. Из этого следует, что и мы современные люди не знаем, чем обусловлены наши жизни, что в них дремлет неизвестного и нами незнаемого, но из чего произрастает вся совокупность нашего наличного бытия.
Более того, на возможное знание этого вполне рационального вмешательства не влияют никакие реальные данные: ни опыт, ни опыт априори, ни состояния человека, ни развороты и повороты его судьбы, ни его мысли, чувства, ощущения ничего не скажут ему, как не говорят они и Обломову об атеросклерозе, не принесут никакого конкретного знания. Все это смело можно собрать в мешок и выбросить за забор. Потому что как говорит Бибихин: «На вещах, которых нет, держится всё».
Мы, однако, не принимаем в расчет божественное вмешательство в нашу жизнь, основанное только лишь на факте нашего неведения. COVID-19 сначала не был никому известен. Это не означает автоматически божественного вмешательства, персонализированного смертельным вирусом. В нашем случае все гораздо рациональнее и прозаичнее. Сознание просто является эпифеноменом циркуляции ЭЖ. Оно вторично. Поэтому опознает онтологическое положение дел «задним числом» с учетом темпорального лога, который может колебаться в диапазоне от 1 до тысячелетий. Как говорит Макиавелли в «Государь»: «Здесь происходит то же самое, что с чахоткой: врачи говорят, что в начале эту болезнь трудно распознать, но легко излечить; если же она запущена, то ее легко распознать, но излечить трудно. Так же и в делах государства: если своевременно обнаружить зарождающийся недуг, что дано лишь мудрым правителям, то избавиться от него не трудно, но если он запущен так, что всякому виден, то никакое снадобье уже не поможет».
***
Мне вспоминается речь Проханова. Он в каком-то религиозно-мистическом экстазе описывает возможный парад участников войны за Россию: парад раненных, больных, кто без руки, кто без ноги, на носилках, в инвалидном кресле. Тогда, когда услышал это, внутренне запротестовал. «Как это?! Что такое?! – говорил я себе. – Пестовать же нужно атлантов, пышущих здоровым духом людей, будто сошедших с Олимпа полубогов, вершащих судьбы миров. И обществу трудиться нужно, для того чтобы здоровое тело извергало из своего изобилия здоровый дух, а не из нехватки войны испускала мистическую пустошь».
Я вспомнил все парады спортсменов, военных, рабочих. Люди шли как на подбор: ровными высокими рядами атлетических тел, веселыми, радостными, здоровыми, рвущимися вперед, навстречу великому завтрашнему дню. И тут – святые мертвецы и убогие калеки. Я был много удивлен еще и потому, что считал Проханова демиургом советской прозы, маститым прозаиком, у которого набатом звучала осанна морально-нравственному героизму как смыслу бытия. И где же здесь нравственность – искалечить всех людей для какой-то невменяемой цели, завладевшей чьим-то больным сознанием? Но я засомневался, ибо светлый здоровый завтрашний мир, который строили здоровые сильные тела, так и остался в завтра, вчера испустив дух в войнах за место под солнцем.
И вот много позже я смотрел телевизионную передачу. Речь в ней шла о семейной паре – старике и старухе, – которым было около ста лет. Все эти годы они прожили в глухой деревне. Внук их в интервью говорил, что они видят, слышат, говорят только тогда, когда находятся рядом друг с другом. Порознь ничего не слышат и не видят. Они стали одним целом. Слепые глаза одного видят зрячими глазами другого, глухие уши последнего слышат здоровыми ушами первого. Так из физических недостатков возникает физиологическая потребность в другом, настоятельная необходимость, обеспечивающая возможность жить только с другим и не жить друг без друга. Не пробуйте понять, как это происходит изнутри их опыта, это бесполезная затея. Они живут в другой реальности, нам здоровым не понятной, незнаемой. Однако составляющей целое всей жизни.
И вот теперь – больной Обломов. Чтобы жить, ему нужны другие, которые будут присматривать за ним, терпеть его причуды, поддакивать ему всегда и во всем, одевать его, брить, умывать, кормить, любить. Словом, заботиться о нем. Жить ради него. Быть счастливым этою Заботой. Потому что Обломов несчастен, он смертельно болен, к нему должен был прийти тот самый любящий его Другой. И тот, кто пришел к нему больному, возлюбил его в своей заботе, тот и стал им. Возникает, правда, ужаснейшее вопрошание: неужели, для того чтобы общество полностью реализовало морально-нравственную политику, оно всенепременно наполовину должно быть больным, должно нести на себе свою же искалеченную половину?
Только Захар и Пшеницына неосознанно встали на путь морально-нравственного милосердия… более никто. Ольга Ильинская почувствовала угрызения совести в том, что смогла стать на этот путь, но не встала. В четвертой части повести она бессознательно сожалеет о том, чего не сделала. Штольц обольщает ее рассудительными речами, смывая с хрупкой женской души способной к состраданию, остатки добра, вызывавшего в ней неосознанную горечь. Но в своем сне она все-таки встает на этот путь: «Это не твоя грусть; это общий недуг человечества. На тебя брызнула одна капля… Все это страшно, когда человек отрывается от жизни… когда нет опоры. Ей стал сниться другой сон, не голубая ночь, открывался другой край жизни, не прозрачный и праздничный, в затишье, среди безграничного обилия, наедине с ним… Нет, там видела она цепь утрат, лишений, омываемых слезами, неизбежных жертв, жизнь поста и невольного отречения от рождающихся в праздности прихотей, вопли и стоны от новых, теперь неведомых им чувств; снились ей болезни, расстройство дел, потеря мужа… Она содрогалась, изнемогала, но с мужественным любопытством глядела на этот новый образ жизни, озирала его с ужасом и измеряла свои силы» [4, VIII].
октябрь 2025 г.
Литература
Анненский И. Ф. Гончаров и его Обломов. – М.: "Наука", 1979.
Беляева И. А. Обломов и Мышкин: штрихи к теме // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2021. Т. 26. № 3. С. 457–465.
Бернштейн Ч. Изощренность поглощения — М.: Издательство Икар, 2008.
Буренин В. П. Критические этюды // [Соч.] В. Буренина. – СПб, Тип. А. С. Суворина, 1888.
Вудард Б. Динамика слизи. Зарождение, мутация и ползучесть жизни / пер. с англ. Д. Хамис. — Пермь: Гиле Пресс, 2016
Добролюбов Н. А. Что такое обломовщина? – web.
Киф П. Р. Империя боли. Тайная история династии Саклер, успех которой обернулся трагедией для миллионов. – М.: Эксмо, 2025.
Лотман Ю. М. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1970.
Мол А. Множественное тело: Онтология в медицинской практике. — Пермь: Гиле Пресс, 2017.
Разумихин А. М. "Обломов": опыт современного прочтения // Литература. – 2004. – № 24. – С. 11-15, 18-26
Рогачева Т. В. Смысловая реальность болеющей личности: структурно-функциональный анализ (на материале болезней и нарушений системы кровообращения). – Томск, 2004.
Ручко С. В. Циркуляционная теория связи сознания // Топос, 2025. URL:https://www.topos.ru/article/ontologicheskie-progulki/cirkulyacionnaya-teoriya-svyazi-soznaniya-ctss
Смирнова О. А. Роман «Обломов» и дискуссия о его герое в XIX – начале ХХ века как источник изучения специфики понимания русского национального характера // Вестник ОГУ №4 (123) /апрель 2011. С. 52-57
Шюманн Д. Бессмертный Обломов. О внелитературной жизни литературного героя // Гончаров И. А.: Материалы Международной конференции, посвященной 190-летию со дня рождения И. А. Гончарова / Сост. М. Б. Жданова и др. — Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2003. — С. 113—123.
Цвейг С. Торжество инертности. — М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 2000. — С. 9—14.
[1] Андерскор в слове служит знаком отличия от этимологически родственного схоластического термина subsist (существование); sub_sist содержит в себе семантику устойчивости объектов, определяет семантику реального объекта в способе его бытия как el "modo de subsistencia" у Ф. Суареса.
[2] «Современная молекулярная физика знает понятие «дырки», которое совсем не равно простому отсутствию материи. Это отсутствие материи в структурном положении, подразумевающем ее присутствие. В этих условиях «дырка» ведет себя настолько материально, что можно измерить ее вес,— разумеется в отрицательных величинах. И физики закономерно говорят о «тяжелых» и «легких» дырках. С аналогичными явлениями приходится считаться и стиховеду /…/ Если приравнивать его понятию «реальная данность художественного произведения», то необходимо учитывать и «минус-приемы» — «тяжелые» и «легкие дырки» художественной структуры» [Лотман, 131].
[3] Несколько слов о том, по какой причине говорим "энактировать", а не "осуществлять".
Слово "осуществлять" не формирует представления о неопределенности (несуществования) акторов (или субсистентов) осуществления. Мы говорим "объект А осуществил определенное действие".
Энактировать же именно полагает момент осуществления несуществующим объектом, где он каким-то образом осуществляется. У Мол это выглядит так: “Есть хорошее слово: осуществлять (enact). Можно сказать, что в практиках объекты осуществляются. Этот способ выражения указывает на то, что имеют место какие-то действия, но оставляет акторов этих действий неопределенными. Это также означает, что в действии, только там и тогда, нечто есть, будучи осуществляемым. Оба подразумеваемых смысла прекрасно вписываются в праксиографию, которую я пытаюсь развернуть здесь” [Мол, 67].
Для этих смыслов полагаю лучше использовать англицизм "энактировать".
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

