АНРИ БЕРГСОН: восприятие, субъект, время (10)
Джелато ди Краема (09/06/2014)
Существует целый ряд общепринятых представлений о работе человеческого восприятия, и эти представления, по мнению Бергсона, обладают некоторыми недостатками принципиального характера. Как мы уже говорили, подобные схемы предполагают определенный порядок рождения "полного" восприятия: вначале идет нерасчлененная масса воспринятого материала, физическое воздействие и информационный поток, затем они распадаются на отдельные звуки и слова, которые, в свою очередь, вызывают к жизни абстрактные понятия. Дефект заключается в основных операциях этой схемы: (а) в разбиении неделимого процесса на выделенные фазы и (б) в фиксации каждой фазы как независимой, имеющей свое существование и даже свою локализацию. Такое разбиение отнюдь не проходит безнаказанно, поскольку неделимый процесс подменяется серией объектов, что принуждает при этом добавлять все новые и новые элементы. Кроме того, за этой схемой не видно, что порядок рождения восприятия в действительности совсем иной и даже противоположный этому и что необходимое единство словам дает именно идея, а звуковые воспоминания слов только завершают звуковые впечатления, пришедшие извне, придавая им отчетливость и форму. "...Туманное облако идеи конденсируется в… образы, которые, оставаясь до поры текучими, приходят к тому, чтобы застыть при своем слиянии с материально воспринятыми звуками. Ни в один из моментов невозможно точно сказать, что закончилась идея или образ-воспоминание и начинается образ-воспоминание или ощущение" (MM, 168). Но перестановка порядка не исчерпывает всей сложности, о которой Бергсон напоминает весьма четкой формулировкой: "...где проходит разграничивающая линия между смешением звуков, воспринятых в массе, и ясностью, которую в них вносят слуховые образы памяти, между прерывностью самих этих образов, заключенных в памяти, и непрерывностью исходной идеи, которую они разлагают и преломляют в раздельные слова?" (MM, 168)
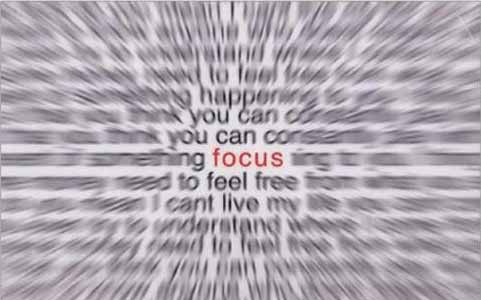
Если продолжать дальше, то традиционная схема становится еще менее убедительной из-за того, что разнообразные наблюдения афазий подтверждают отсутствие "центра идей", и различные высшие функции оказываются рассыпанными по различным центрам, локализованных в разных местах.
Уже простой анализ понимания речи показывает, насколько бесполезна концепция, согласно которой слова вызывают в сознании конкретные идеи (или образы). Понимание речи идет другим путем. "...Чем примитивнее язык, на котором вы говорите со мной, тем меньше в нем выражено отношений, тем больше вы оставляете места для работы моего духа, потому что вы вынуждаете его устанавливать связи, которые вы не выражаете… По правде говоря, тут нет ничего, кроме степени: язык, развитый или грубый, всегда подразумевает больше вещей, чем может выразить" (MM, 171-2). В таком контексте нет смысла говорить о готовых образах, хранящихся в памяти. Эта идея есть лишь продукт дискурсивной тенденции разбивать процесс на предметы. Ключом к пониманию чужой мысли является собственная мысль, но никак не образы, которые, как предполагаются, порождают ее. "Именно поэтому я понимаю ваши слова, что исхожу из мысли, аналогичной вашей, чтобы следовать поворотам с помощью вербальных образов, предназначенных... указывать мне путь. Но я ее никогда не смогу понять, если буду исходить из самих вербальных образов, потому что между двумя последовательными вербальными образами имеется интервал, который все конкретные представления не способны заполнить" (MM, 172).
Если гипотеза Бергсона справедлива, то локализация образов в мозгу невозможна, также как невозможно найти реальное различие между центрами воображения и центрами восприятия, которые всегда оказываются смешанными друг с другом. "Идеи... чистые воспоминания, вызываемые из глубин памяти, развертываются в образы-воспоминания, все более и более способные внедриться в моторную схему" (MM, 172). Образы-воспоминания есть в той же мере плод идей, что и восприятия, и нельзя сводить их происхождение к одной только памяти.
А вообще говоря, теория локализации образов сталкивается с серьезным противоречием, поскольку разные наблюдения заставляют интерпретировать ее положения по-разному, без какой-либо возможности сочетать варианты. А именно, либо элементы восприятия идентифицируются с элементами воспоминаний, как это следует из наблюдений за процессом запоминания, либо их следует различать, как того требуют представления о разнообразных афазиях.
Заметим мимоходом, что в этом рассуждении Бергсон вполне определенно провел различие между воспоминаниями, хранящимися в памяти, и образами, в которые они актуализируются. Это означает, что не следует идентифицировать ту массу, которая накапливается в глубинах памяти, с готовыми артикулированными и ясно структурированными образами. Образы памяти актуализируются по мере приближения к моторному механизму, и в этом движении и становятся, собственно говоря, образами в привычном смысле слова. Мы пока не можем в полной мере понять онтологический смысл этого процесса. Если формально полагать, следуя изначальным гипотезам Бергсона, что память не имеет отношения к материи, то воспоминания превращаются в некую независимую субстанцию, с которой могут происходить разнообразные метаморфозы. Но если мы попытаемся и в самом деле следовать этой логике, то попадем в ловушку. Замена одной субстанции другой создает видимость различия, но на самом деле лишь воспроизводит материальную схему, только в иной ипостаси, и воспоминания оказываются лишь элементами этой субстанции. Вряд ли Бергсон не думал об этом тупике. Скорее здесь следует вспомнить об иной стороне его концепции, согласно которой там, где мы сталкиваемся с взаимно исключающими друг друга тенденциями, мы имеем дело с разными пределами, которые можно вычленить лишь мысленно, хотя именно эти пределы и обладают подлинной независимостью. Реальность есть - нет, не смесь, а синтез этих предельных "субстанций", и они не есть нечто онтологически первичное по отношению к этой реальности, но лишь плод анализа. Так ли это понимал Бергсон? Трудно сказать, но этого вывода избежать тоже непросто.
Вообще говоря, трудно рассуждать об образах-воспоминаниях и не подразумевать какой-то субстрат, подложку, то есть материальный носитель, который сам по себе обладает более широким смыслом и содержанием. Он способен создать нужный фон, и по контрасту с ним образу проще выявить свою идеальность. Также как холст имеет больше значений, чем написанная на нем картина, чье идеальное содержание имеет смысл только в определенном культурном контексте. Когда дан такой субстрат, дана возможность подразумевать метаморфозы содержания, реализуемые метаморфозами субстрата, даже если не придерживаться идеи взаимно однозначного соответствия между ними. И если Бергсон настойчиво отделяет материю от памяти, не означает ли это, что он стремится лишь удержать дистанцию между предельными формами, которые сами по себе уже есть абстракция? В таком случае этому разделению не следует приписывать онтологического смысла. И реальность, взятая в целом, есть скорее нечто синтетическое, а память имеет к ней отношение не меньшее, чем материя, и участвует в ней не в меньшей мере, чем материя.
Ниже (Онтология образов памяти) мы вернемся к этому вопросу, а сейчас продолжим изложение идей Бергсона относительно того, как формируется из своих независимых частей цельное восприятие.
Принцип завершенного восприятия Бергсон формулирует следующим образом: оно "...определяется и выделяется как слияние с образом-воспоминанием, которое мы высылаем ему навстречу" (MM, 174). Четкое восприятие возникает при встрече двух потоков - внешнего, от объекта, которое есть пассивное восприятие, переходящее в механическую реакцию, и внутреннего потока от субъекта, которое есть его "чистое" воспоминание, материализующееся во встречном потоке.
Чтобы объяснить наблюдаемые явления и разрешить ряд противоречий в их интерпретации, Бергсон предлагает модель; согласно этой модели элементарные ощущения есть колебания струн, которые возбуждаются клавишами - органами чувств под воздействием внешнего объекта. Если эта клавиатура отсутствует, то струны могут по-прежнему возбуждаться. Для этого на них должны воздействовать психические причины - образы памяти. Но напрямую такое воздействие невозможно – в силу независимости памяти и материи, поэтому Бергсон делает предположение, что существует "симметричное внутреннее ухо". Эти внутренние органы "...отнюдь не являются складом чистых воспоминаний, то есть виртуальных объектов, в той же мере, в какой органы чувств не являются складом реальный вещей" (MM, 177).
Вопрос о том, насколько правомочна подобная модель, можно оставить открытым. Например, можно поставить под сомнение существование подобной "внутренней" системы, а значит и необходимость говорить о ней. Ведь, в конце концов, даже обычное ухо и его слуховой аппарат есть апостериорное единство, которое мы сами предписываем известной органической системе – живому организму, полагая, что у возникновения ощущений есть цель. Без этой целесообразности единство системы становится призрачным. И если реальное ухо - целостность условная, то его симметричное "внутренне отражение", которое вводит в свою схему Бергсон, условность еще большая. Ведь вслед за этой идеей придется сказать о воздействии на него образов-воспоминаний, и все вместе, задуманное как схема в сфере идеального, приобретает черты материальности. Оправданно ли это?
Однако Бергсон не вступает в обсуждение деталей. Главное для него, что в этой схеме мы идем не от восприятия к идее, а наоборот "...от идеи к восприятию, и специфический процесс распознавания является не центростремительным, а центробежным" (MM, 178).
Попытаемся суммировать этапы, в соответствии с которыми воспоминания (а с ними, надо полагать, и все остальные ментальные явления) прокладывают себе дорогу, чтобы оказать влияние на моторный механизм тела. Чистое воспоминание, по мере своей актуализации, стремится спровоцировать в теле ощущения. Эти виртуальные ощущения, в свою очередь, чтобы превратиться в реальные, должны стать источником действительных движений тела. Причина ощущений - не возбуждение соответствующих центров, которое лишь знак степени этой готовности организма к двигательной реакции. Виртуальный образ прогрессирует только тем, что заставляет двигаться тело, и это движение реализует одновременно и ощущение, и образ, пришедший из памяти. Заметим, однако, что, по собственному замечанию Бергсона, все это "...только лишь удобная манера выражаться" (MM, 178).
Бергсон выделяет три взаимосвязанных элемента: чистое воспоминание, память-образ, восприятие. Ни один не существует независимо: образы памяти нужны для интерпретации восприятий; чистое воспоминание материализуется посредством этих образов; сами образы актуализируются через восприятие, посредством же образов памяти восприятие приобретает свою законченную форму. Каждая из этих сторон деятельности сознания представляет собой определенную идеализацию, но все они необходимы, поскольку позволяют составить представление обо всем процессе в целом.
Ошибка теории ассоциаций, согласно Бергсону, состоит в том, что она разбивает непрерывность на бесчисленное множество отдельных элементов - ощущений и воспоминаний, четко очерченных и отделенных друг от друга. "Но истина заключается в том, - пишет он, - что мы никогда не достигнем прошлого, если с самого начала не разместимся в нем. Прошлое, виртуальное по самому своему существу, может быть схвачено нами как прошлое, только если мы следуем и усваиваем движение, посредством которого оно захватывает текущий образ, выходя из тьмы на свет. Именно тут находится ошибка ассоцианизма: размещаясь в настоящем, он бесплодно тратит усилия на то, чтобы открыть в настоящем и реализованном состоянии знаки своего происхождения в прошлом, чтобы отличить воспоминание от восприятия, чтобы установить в качестве сущностного различия то, что с самого начала предопределено быть различием лишь по величине" (MM, 183-4).
Следует также отделить роль воображения, образы которого, как настаивает Бергсон, не следует смешивать с образами памяти. Сначала такое смешение кажется естественным, а память представляется как ослабленное ощущение на стадии его зарождения. Чтобы понять разницу, следует двигаться против линии, вдоль которой эти образы материализовались. Дойдя до самого начала, нетрудно понять, что объяснить память как зарождающееся ощущение - невозможно, так как обратный порядок абсурден - нельзя сказать, что уменьшая интенсивность ощущения, я приду, в конце концов, к воспоминанию об ощущении. Источник ошибки заключается в представлении о незаинтересованном познании и восприятии. Такой взгляд не способен установить различие между восприятием и воспоминанием.
В чем же дело? Психологическое "настоящее" - неразделимый сплав ощущений и возникающего действия, занимающий некоторую длительность, в котором ощущение уходит в прошлое, а движение смотрит в будущее. "Мое настоящее есть одновременно ощущение и движение, и поскольку мое настоящее образует неделимое целое, это движение должно соответствовать этому ощущению, продолжая его в действие. Откуда я заключаю, что мое настоящее заключается в сложной системе ощущений и движений. Мое настоящее, по существу, является сенсоро-моторным" (MM, 186). В каждый момент времени мое настоящее есть осознание моего тела. Тело испытывает ощущения и совершает движения, и в данный момент можно обладать только одним набором ощущений и только одним набором действий. Это непрерывное становление есть сама действительность, и наше восприятие рассекает текущий поток, чтобы в сечениях появился материальный мир.
Здесь Бергсон открывает дверь к трудной проблеме о различии внутреннего и объективного времени и о реальности их обоих. Концепция времени ставит, в первую очередь, вопрос о единстве мира событий, которые могут быть сопоставлены между собой и сведены вместе в некоторое целое - настоящее. Мир, такой, какой он есть, как бы предоставляет возможность воспринимающему субъекту собрать воедино все это разнообразие событий под одним общим заглавием "одновременность". И вот человек, пользуясь этой концепцией в своих расчетах, может быть успешно, а может быть нет, но овладевает окружающим миром. Является ли одновременность характеристикой, присущей самим событиям, или она назначается субъектом, оставаясь лишь мысленным приемом, нормативной мерой, субъективным порывом навести порядок? Одну подсказку мы находим в сфере науки, в лице специальной теории относительности, которая вырывает у этого понятия его объективную основу и ставит его содержание – ритм и фазу - в зависимость от скорости самого субъекта. Но теория относительности лишь вынудила уточнить и частично переосмыслить это понятие, но не лишила его своего значения для нашей практики и даже не предложила отказаться от него. Таким образом, исходная проблема осталась нерешенной: события в мировом потоке "не осведомлены" ни о том, что они следуют друг за другом, ни о том, что они происходят одновременно. Время как таковое, время как порядок их не затрагивает.
Оно их не затрагивает до тех пор, пока не возникнет вопрос о самотождественности предметов - еще одной концепции, не имеющей корней в реальном мире. В такой же мере это касается событий внутреннего мира: несколько случаев амнезии в ее крайней форме, которые приводит Робинс [1], могут служить примерами "мгновенного" сознания, лишенного памяти. Из этих примеров видно, что в различных бытовых ситуациях субъект неосознанно пользуется содержанием своей памяти. Однако он неспособен осознать это содержание как прошлое событие. Ему не удается мысленно удержать порознь прошлое и настоящее, чтобы тем самым утвердить разницу между ними. Можно сказать, что память не знает, что она - память и что ее содержание - это прошлое.
Подобные вопросы начинают следовать один за другим, когда мы задумываемся о субъективном характере восприятия и, в особенности, о единстве апперцепции; при этом кантовское вывод, что время есть субъективная форма организации опыта, начинает навязываться как весьма правдоподобное решение.
В связи с этой субъективностью времени, уверенность в которой от этих соображений только крепнет, появляется и такой вопрос: что же обсуждает Бергсон и о каком "настоящем" у него идет речь, если у этого понятия нет объективного содержания, даже когда мы говорим о конкретном индивидууме, способном отличить свое настоящее от своего прошлого? Ведь именно собственное существование субъекта задает меру времени, которую он применяет к окружающему его миру, именно оно берется как шкала, как масштаб, и в силу этого уже не может служить опорой субъекту, чтобы он смог через эту меру определить свое собственное настоящее. Субъект всегда присутствует сейчас, он неотступно пребывает при своем настоящем, которое, в конечном итоге, есть не более чем тавтология, пустое бессодержательное понятие.
Но дело тут не настолько просто: весь этот круг вопросов никем никогда не договаривается до конца, и они застывают в подвешенном состоянии; при этом идея одновременности используется в бытовой речи как понятие, чья правомерность подразумевается сама собой, и не только в отношении внешних событий, но и в отношении внутреннего опыта. Продолжают говорить о внутреннем переживании настоящего, о том, что оно реально отлично от прошлого, об одновременности или последовательности различных явлений или происшествий психической жизни. Таким образом, несмотря на недоговоренность, несмотря на риск произнести тавтологию, личность уверенно вводит понятие одновременности в свой опыт и сочетает его со своим собственным внутренним самоощущением. При этом концепция времени, включая идею настоящего, принимает в его сознании свои законченные очертания, как в отношении мира "снаружи", так и для внутренних событий. И тем не менее, от произвольного акта, от волевого решения, без которого не формируется категория времени, избавиться так и не удается, хотя о нем успешно забывают.
Есть еще одна сторона у этой трудности. В жизни реального субъекта, утверждает Бергсон, настоящее занимает определенный интервал времени, поэтому его невозможно представить в виде мгновенного события. Если не искать излишней логической строгости, то, вообще говоря, с этим утверждением трудно не согласиться, и его справедливость не вызывает серьезных возражений. Однако у него есть свой недостаток: оно невольно обращается к объективному течению времени вне субъекта, и получается, что структура личного настоящего рассматривается относительно этой объективной рамки, и она становится его критерием. Другими словами, отношение между внутренним и "внешним" временем, о котором мы говорили выше, переворачивается. В этом есть свое противоречие, некоторая несостоятельность, которую теория так и преодолевает. Если же попытаться быть последовательным в этих рассуждениях, то приходится признать, что, в сущности, порядок и организация времени есть продукт работы духа.
Возможно, мы что-то упускаем из виду, поскольку нет уверенности, что эту организацию времени можно полностью, без остатка отнести за счет духа. Разобраться в этом вопросе довольно трудно - ведь чтобы понять жизнь духа, мы стремимся расположить его во времени, не умея поступать по-другому. Но если придерживаться идеи, что внутреннее время - а с ним и общее время - имеет субъективный характер, то временнáя "толщина" настоящего момента может быть понята как синтез чистого восприятия и привлеченных, удержанных или реализованных воспоминаний. И только вся их совокупность и рождает структуру времени, внутри которой или относительно которой организуется эта "толщина", не устранимая никаким анализом.
Следует держать в поле зрения все эти неясности и темные места в нашей привычной концепции времени, используемой в быту и в научном обиходе, если мы хотим разобраться и в той идее настоящего, что выдвигает Бергсон.
Мы прервем анализ понятия субъективного времени и вернемся к нему позже (Роль субъективного времени. Субъективность), а пока обсудим некоторые проблемы, связанные с самой субъектностью.
Роль времени в жизни духа оказывается более важной, чем это могло бы показаться на первый взгляд, и Бергсон эту роль неоднократно подчеркивает. Но прежде чем перейти к изложению его концепции, отметим следующее. Понятие субъективности амбивалентно, и его применение ведет к образованию субъективного круга - порочного круга, в который мы втягиваемся, как только беремся его анализировать. В чем же состоит этот круг?
Когда говорят о различии понятий субъективного и объективного, то подразумевают существование двух рядов событий, которые противопоставлены друг другу своим отношением к субъекту. Одни события полагаются независимыми от него, эти события происходят свои чередом, безразлично к тому, присутствует субъект или нет. Второй ряд событий привязан к его существованию и без него немыслим, а ход этих событий обусловлен другими такими же субъективными событиями, которые вместе составляют его особый внутренний мир. Определить различие между рядами невозможно, здесь нет иного пути, кроме как обращения к личному опыту каждой конкретной личности, которая удостоверяет, таким образом, истинность (или, если хотите, правдоподобность) этого разделения. Это необходимое и неизбежное прямое обращение к опыту личности оборачивается тем, что само разделение ставится в зависимость от одной из его сторон – от субъективного мировосприятия. Более того, когда личность подводит итог такого разделения, чтобы подтвердить его наличие, внешний мир сам оказывается лишь представлением во внутреннем мире, и субъект дистанцируется от представленного образа, хотя это его собственное субъективное представление об объективном мире, и именно он обладает им. Сам же внешний мир - или предполагаемый независимый прообраз - теряется в этом процессе. Успех и состоятельность разделения становятся как бы заложниками результата разделения, в частности - возникновения внутреннего мира, чем и замыкается порочный круг. Этот круг заставляет сомневаться в состоятельности разделения, которое завершается таким иллюзорным результатом.
Это противоречие можно представить иначе, как бы с противоположной стороны. Субъект и его внутренний мир вычленяются из общего потока событий в результате определенной поляризации этого потока, суть которой мы не уточняем. Внешний мир обладает - по крайней мере, гипотетически - известной устойчивостью, самостоятельностью и независимостью от субъекта, и все эти характеристики включены в понятие объективности. А субъективность как бы отставляется в сторону, вычеркивается из сферы объективности. В итоге этого вытеснения получается так, что черты объективности неявно придаются и самому субъективному миру, в силу его внеположенности объективной реальности, в силу самого факта внеположенности. Поляризация, которая должна была разделить два мира, не достигает своей цели и как бы отменяет сама себя, и мы опять попадаем в порочный круг субъективности.
Наличие этого круга никогда ясно не осознавалось, хотя, может быть, предчувствовалось, потому что делались многочисленные философские попытки "отменить" внешний мир. Попытки нельзя назвать удачными, поскольку эти концепции, такие как философия субъективного идеализма, продолжали вращаться внутри этого круга. В такой же мере мог бы быть "отменен" и внутренний мир, с таким же бесплодным исходом. Короче говоря, это тупик, и тупик, возникший из-за абсолютизации существования субъекта, торопливо принимаемой в этих теориях.
Обсуждая восприятие настоящего момента, Бергсон пишет: "...по правде говоря, все восприятие уже есть память. На практике мы воспринимаем только прошлое, а собственно настоящее есть лишь ускользающее продвижение прошлого, пожирающего грядущее" (MM, 198). Настоящее, которое должно указывать на какую-то реальность, указывает на то, чего нет. На наш взгляд, здесь имеется очень важная подсказка к тому, как надо понимать природу ментальности и ее онтологический статус.
Можно принять, что внутренний мир и отраженный в нем внешний мир есть лишь желаемый результат, идеальная схема, предельная точка процесса поляризации, никогда не реализующаяся в событии, состоянии, процессе или в сети отношений, а только лишь в собственной возможности, точнее - в возможности собственных событий, состояний, процессов и отношений. То есть ткань этой реальности составляют бесчисленные перекрестные ссылки и указания на что-то, что уже было и его больше нет, или оно вот-вот возникнет, или его пока нет, но оно обещано, или оно рядом, под рукой и легко может быть извлечено на свет и тому подобное. Этот виртуальный мир обещаний, имманентный самому себе и сам определяющий свой динамически меняющийся контекст, не просто внеположен материальному "объективному" миру, но он для него попросту "невидим": в нем нет ничего, чем бы он мог "зацепить" плотный внешний мир, также как номинальные стоимости бумажных ассигнаций невидимы и бессильны посреди реальных осязаемых товаров. В свою очередь, этот виртуальный мир обещаний и ожиданий - мир Годо, по имени виртуального персонажа пьесы Сэмюела Бекетта, - не несет никакой ответственности за свои события - мысли, чувства, эмоции, намерения, решения – которые подразумеваются и уже названы, но так и не происходят.
Реальность всех событий такого рода, связанных с человеческим сознанием, ускользает в этой безграничной сети референций. Как бесспорный факт, не представлено ни одно из них – нам удается подхватить лишь рассказ о них, и переходя от одного указания к другому, мы находим все новые и новые рассказы – слова… слова… слова ("Paroles, paroles, paroles… " - пела Далида об очаровании обещаний, которые только обманывают…). Каким образом можно было бы отыскать корреляцию между сознанием человека и состоянием его нервной ткани? На двух крайних пунктах корреляционного отношения должны располагаться факты. На одном из них такие факты есть – это материально наблюдаемые явления в тканях мозга. Но с другой стороны этого отношения – пустое место! Обещания, указания, референции – все это есть, но сам факт, к которому они адресуются, ускользнул. Материалистическая интуиция, почти безотчетный материалистический инстинкт гонят нас на поиски этой корреляции, но в пустом мире Годо они беспомощно застывают.
Остается только сказать: когда сталкиваешься с такими трудностями, то чтобы успешно балансировать на диалектике субъективного и объективного, требуются воистину экстраординарные средства.
Рассмотрим теперь, как Бергсон сопоставляет ощущения и образы памяти, чтобы выяснить их относительную роль в материальной жизни тела. Первое, на чем он останавливается, это самое общее наблюдение: ощущения охватывают оболочку моего тела, тогда как чистые образы памяти для него никакого интереса не представляют. "...Ощущение, по преимуществу, протяженно и локализовано, оно есть источник движения; чистое воспоминание, оставаясь непротяженным и бессильным, нисколько не участвует в ощущении" (MM, 188-9). Образ памяти внедряется и становится актуальным только тогда, когда он затребован, когда он нужен; с этого момента он теряет качество чистого виртуального воспоминания и приобретает материальность ощущения. Образ - актуальный образ, ощущение - есть часть настоящего, которое с прошлым связано только через воспоминание, виртуальное и непротяженное.
Философ отмечает, что психологические состояния не ограничиваются одними лишь актами сознания. Все воспринятые образы, также как и образы памяти, способные возникнуть в нашем сознании, должны существовать до того, как они стали осознаваться, то есть они должны существовать виртуально. Их актуализация и переход в реальное состояние, которое характеризуется осознанностью, связаны с их участием в подготовке действия. "Считать, что прошлое, однажды воспринятое, исчезает, не больше причин, чем полагать, что материальные объекты перестают существовать, когда мы перестаем их воспринимать" (MM, 190).
[1] Robbins S. E. (2009) The COST of explicit memory. Phenom. Cogn. Sci., 8, 1, pp.33–66.
Последние публикации:
АНРИ БЕРГСОН: восприятие, субъект, время (14) –
(24/06/2014)
АНРИ БЕРГСОН: восприятие, субъект, время (13) –
(18/06/2014)
АНРИ БЕРГСОН: восприятие, субъект, время (12) –
(16/06/2014)
АНРИ БЕРГСОН: восприятие, субъект, время (11) –
(11/06/2014)
АНРИ БЕРГСОН: восприятие, субъект, время (9) –
(03/06/2014)
АНРИ БЕРГСОН: восприятие, субъект, время (8) –
(02/06/2014)
АНРИ БЕРГСОН: восприятие, субъект, время (7) –
(28/05/2014)
АНРИ БЕРГСОН: восприятие, субъект, время (6) –
(26/05/2014)
АНРИ БЕРГСОН: восприятие, субъект, время (5) –
(22/05/2014)
АНРИ БЕРГСОН: восприятие, субъект, время (4) –
(15/05/2014)
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

