Физика любви или аннигиляция диалектической пары: физик-лирик
Рецензия на книгу Игоря Метельского «Граммофон траекторий» (Москва, «Стеклограф», 2025)
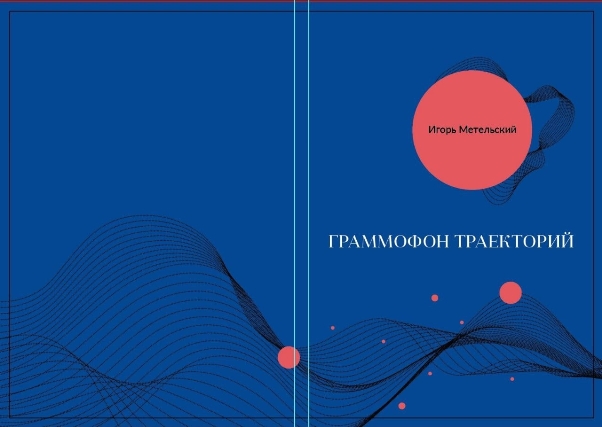
Физики и лирики – древнее противостояние реальности и воображения. Или это иллюзия противостояния? Герой данной заметки одной ногой стоит в поэзии, другой – в физике. Но редкость ли такая расплывчатость? Исаак Ньютон, Джеймс Максвелл, Юрий Манин – вот яркие персонажи из разных эпох, писавшие стихи. Можно даже задать вопрос: а можно ли быть гениальным физиком и не писать стихи?
Физика – это всегда в первую очередь опыт. Всё поверяется экспериментом. Но эксперимент длится минуты, а жизнь годы. И какой бы мощный ни был у физика интеллект (расшифровывающий эмпирические результаты), его работа с жизненным опытом может принести больше пользы. Например, чтобы сопоставить покой и движение – важнейшую диалектическую пару в истории науки и философии – требуются исписанные тома книг, а Игорю Метельскому – демиургу, скрещивающему физику и лирику, достаточно четырёх строк стихотворения:
В книге «Топология социального» я писал, что поэзия – это газообразная среда, в которой идеи проскакивают искрой, заставляя газ конденсироваться во влагу, уже дальше истекающую дождём науки и затем опадающую на землю тавтологий и конденсирующуюся в кристаллы философии.
У газа нет ни выделенного направления, ни выделенного момента времени. В атмосфере поэзии достаточно легко перемешиваются и синтезируются различные идеи, недаром синтез жизни пытались произвести, прогоняя электрический разряд через газообразную среду. А тем, кто занимается холодным ядерным синтезом (LENR), давно известно, что в таких разрядах появляются химические элементы, изначально не присутствующие в газовой среде. Хотя последнее и не считается принятым в существующей научной парадигме. Чаще всего искра идеи проскакивает там, где возникает разность потенциалов различных взглядов, или в момент совмещения различных концептов в единое. Такой момент напоминает аннигиляцию, когда электрон и позитрон сталкиваются, взрываясь двумя фотонами и освещая окружающее пространство. Иными словами, иллюзия научного противостояния развеивается, и два диалектически разведённых концепта вдруг оказываются одним. Происходит сшивание и уплотнение пространства семантики.
Напротив, наука всегда целенаправленна и заранее предполагает, куда будет литься. Она движется в соответствии с принципом наименьшего действия, он же принцип «бритвы Оккама». Наука уже тяжела по сравнению с поэзией и не признаёт другие возможности. Идея – это всегда спонтанное нарушение симметрии, присущей газообразной среде, и всегда тянет вниз, несмотря на то, что сама есть порождение неба. Кстати, для газа принцип наименьшего действия почти не актуален, газ заполняет любые бреши и ему почти безразлично направление движения. Жидкость мысли, напротив, всегда ощущает гравитацию истории её развития и рельеф поверхности, на которую выпал дождь. Именно здесь происходит столкновение с грунтом философии и адаптация науки к общей эпистемологической картине.
В некотором роде аннигиляция смысла является тем моментом, когда мы ставим знак равенства и рождаем формулу. По сути, эта формула и есть гносеологический синтез или идея стихотворения. Это и есть метафора, которая является морфизмом – телепортацией смысла, уравнивающей различные масштабы существования. И гениальные тексты в состоянии относить нас на большие расстояния.
Игорю Метельскому удаётся уникальный множественный синтез. Он смог получить поэтические строфы, не зарегистрированные доселе и не отмеченные ни в одной поэтической таблице Менделеева. Игорь смог поженить физику и лирику. Тексты настолько плотны, что, видимо, поэзия конденсируется в физику, но при этом легки, как будто физика испарилась, превратившись в пар лирики. Не случайна здесь перекличка с первым разделом книги, названным «Точка росы».
В этом тексте Игорь на полной скорости влетает в стену покоя. Память оказывается гораздо круче машины времени – она не только переносит в иной момент, но ещё и меняет скорость течения времени. Если бы такое произошло в реальности, от нас бы осталось мокрое место. Кроме того, если вслушиваться в текст, то можно заметить ещё один синтез, сделанный Игорем (хотя фраза «сделанный синтез» звучит коряво), он соединил японское хокку и то, что мы можем назвать обычным стихотворением. Но хокку – это мощная фокусировка смысла, это короткий текст, который является каустикой какого-то более пространного, ненаписанного произведения. У Игоря такая каустика приобретает вполне внушительную геометрию.
Если листья – это природные микрофоны, через которые деревья общаются с небом, то корни поставляют дереву звёздную пыль, из которой когда-то собралась наша планета, и теперь мы (в том числе люди) питаемся ею через корни растений. Звёздная пыль рождается во взрывах сверхновых, которые порождают ту часть элементов таблицы Менделеева, которые тяжелее железа.
Иными словами, Игорь несколькими штрихами обозначил космологическую трагедию, когда внутренняя часть квазаров становится той элементной базой, которую корни ретранслируют в мир, создающий жизнь. Например, упомянутое железо является важнейшим элементом эритроцитов, переносящих кислород по артериям.
Любой текст диалектичен, например, диалектика стихотворения выстраивается, в том числе, ритмом и рифмами. Но диалектика – это отрицание. Двойное отрицание – это возврат к изначальному состоянию, т.е. это тождественное преобразование. Иными словами, это зацикливание, превращение в точку. Но, закрутившись, важно выйти из мнимого движения, произведя эмерджентность. Как, например, из такого свёрнутого тысячелетнего состояния вышел современный Китай. Это же делает поэзия Игоря, разворачивая точки в прямые.
как будто в пространстве Калуцы
застыл в состоянье нуля,
и разум не хочет вернуться,
и снизу не давит земля
Упомянутый Теодор Калуца тоже наверняка был поэтом, поскольку смог соединить несоединимое. По крайней мере, отец Калуцы был лингвистом, а сам Теодор знал пятнадцать языков. Он расширил метрический тензор, определяющий наше пространство и время, добавив туда электромагнитное поле. Великий Калуца соединил виртуальный вакуум и реальное поле в единый коктейль кривизны пространства, выдвинув гипотезу, что заряд – это свёрнутое пятое измерение. Осталось додумать, может, когда-то наши три измерения тоже были свёрнуты, но развернулись при определённом событии, например, Большом взрыве. Перефразируя песню, «Бог сказал «поехали» и махнул рукой».
потайным для ума алгоритмом
как нейронные сети ничьи
вычисляют немую молитву
уходящие в небо ручьи.
И снова Игорю удаётся выразить невыразимоё, то, что пытался описать в целом томе великий Спиноза, настроив свою оптику и приблизив Бога из бесконечности в ноль. Но с оптикой поэзии Игоря даже Спинозе вряд ли можно тягаться. Это вновь хорошо видно в следующем тексте:
всё дышит новостью терпение дразня
на ветке дрозд читает монологи
сквозь ветер диффундирует в меня
растительная сумма теологий
Или
об электроне думать матом
беречь вселенную в горсти
по ней размазывая атом
а может вслух произнести
Европейские Бог и природа часто экономны. Не зря в физике, пришедшей как парадигма оттуда же, принцип наименьшего действия является стартовой точкой для построения большинства современных моделей. Например, мир фрактален. Он повторяется на разных масштабах. Богу было лень придумывать новое, и он дублировал маленькое в большом. Или наоборот, большое в маленьком. Но не до конца, всегда есть ускользающая эмерджентность. Поэзия может себе позволить быть как Индия, она всегда расточительна и соответствует принципу наибольшего действия. И Игорь Метельский так же легко перемещается между различными масштабами атома и Вселенной, невзирая на траты энергии, которая вроде бы сохраняется.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

