Библиотечка Эгоиста
Via Fati. Часть 1. Глава 6. Триумвират
|
Поэт, от лица которого ведётс повествование, собирается в новое путешествие. Его манит Греция, культура древней Эллады. Мысленно он постоянно возвращается к предыдущей своей поездке на Греческие Острова. Тогда вместе с ним путешествовала Кора, странная, закрытая девушка, роман с которой перетёк в фазу вялотекущего противостояния. По неожиданному интересу, который Кора проявляет к предстоящей поездке, поэт (Войцеховская избегает назвать его даже по имени) начинает понимать, что его новое путешествие можно коренным образом изменить отношения с Корой. Если, конечно, ему удастся избежать прошлых ошибок, которые привели их отношения к тому состоянию, в котором они сейчас пребывают - вооружённому нейтралитету. |
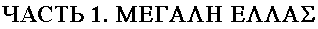
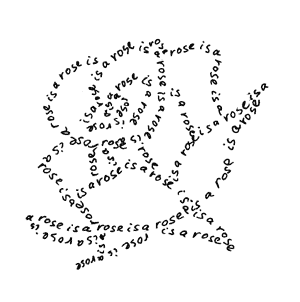
|
Глава 6. Триумвират
Кора не ошибалась, решив, что я смогу ускорить для нее предприятие.
Кажется, никому, кроме почтальона, не должно быть известно,
что дня три назад я получил приглашение на перерегистрацию,
а это значит, что очередь подходит. Но кому может быть
известно, что известно Коре? Зарезервированное мною около пяти
лет назад второе место было теперь свободно. Если бы Кора
опоздала на несколько дней, я попросту отказался бы от него. Но
Кора никогда не опаздывает.
Это второе место предназначалось когда–то Стефану. Он не имел теперь
права пускаться на авантюры, как и я не имел права
напоминать ему о возможности каких–либо авантюр. Впрочем, я не
верил, что он забыл, как сам некогда просил оказать ему небольшую
услугу. И истоки бед этого жизнелюба, упрятанные среди
остро запечатленных в моей памяти мгновенных
газетно–некачественных снимков моего первого студенческого дня, когда я
познакомился почти одновременно и с ним, и с Гансом, — не на моей
ли они совести?
Из среды студентов первого курса нас с Гансом выделял, главным
образом, юный возраст. Большинство наших сокурсников прежде, чем
попасть на факультет, изведали немало открытий и
разочарований. Гансу было неполных восемнадцать, а мне — неполных
семнадцать лет. Мама всегда очень торопилась с моим воспитанием и
образованием, не ленясь обивать пороги школьных бюрократов.
В итоге, я был, по меньшей мере, на полтора года младше
всех своих одноклассников, я был на пять–семь лет младше
большинства своих сокурсников, а теперь я самый старый и усталый
из молодых поэтов. Аминь.
Светловолосый, чуть ниже меня ростом, худой, жилистый, растерянный и
самоуверенный одновременно, плохо постриженный и одетый,
бесконечно провинциальный Ганс был поначалу мне неприятен. От
него самого и от его одежды исходил запах дешевой чистоты,
запах мыла вообще, мыла без названия, каким моются и каким
стирают в семьях, которые моя мама, вздыхая, именовала
простыми. Но черты его обветренного, загорелого лица, на котором
частенько проступал багровый румянец смущения, были почти
изящными, а взгляд — умным. Придется дружить, вздохнул я, когда
он подошел ко мне знакомиться в первом же перерыве и сказал
«Иоганнес», протянув большую грубую ладонь, поскольку никто
другой тут со мной, кажется, дружить не намерен.
 |
Нас с ним, и в самом деле, толкали друг к другу слегка презрительные
взоры наших бывалых сокурсников, а паче сокурсниц, кое–кто
из которых даже хихикнул за спиной:
— Уж не ошиблась ли я адресом, здесь, кажется, детский сад.
— Увы, мадемуазель, я тоже промахнулся: направляясь в университет,
угодил не то в зеленную лавку, не то в бордель, — пришлось
грубо ответить мне, и нас больше не трогали.
Мы отсидели рядышком первый студенческий день и, с длинным списком
литературы, заблудились в бесконечных библиотечных полках.
Наши искушенные сокурсники разбежались по своим делам, а мы
были молоды, послушны и искренне хотели учиться.
Двадцатилетний Стефан... (Я владел тогда странным даром чрезвычайно
точно определять возраст людей, теперь я безвозвратно
утратил его и затрудняюсь даже в отношении собственного возраста.
Молод ли я? Стар? Младенцем я чувствую себя на фоне столь
многих. Младенцем и старцем.) Высокий, мягко–бородатый,
викингоподобный сластена Стефан вразвалку подошел к нам, глумливо
промурлыкал: «Вы историки, не так ли?», в течение следующей
минуты нашел нужные книги, уничижительно разругал их, сделал
вывод, что наши лекторы принадлежат к реакционной школе,
показал с десяток других книг, ярче и острее отражающих
предмет, и велел начинать с чувства, то есть с искусства. Мы с
Гансом были уничтожены, подавлены, потеряли дар речи.
— Ты студент третьего курса? — пролепетал, наконец, Ганс.
— Я учусь на втором курсе физического, — бодро отвечал наш новый знакомый.
— Почему же ты учишься не на историческом? — пытался поддерживать
светскую беседу наивный Ганс.
— Видите ли, — весело–назидательным тоном ответствовал Стефан, — я с
удовольствием изучал бы историю, но я не знаю, что это
такое.
Я поперхнулся названием популярной книжонки, с незапамятных времен
стоявшей в мамином книжном шкафу, и молчал, молчал. А Стефан
развивал тему.
— С Фукидидом и Геродотом я еще как–то мирюсь, но дальше... Если
брать по Цицерону — magistra vitae, или по Диодору
Сицилийскому, или, скажем, по Валерию Максиму, видел я ваших
профессоров, какой жизни они могут меня научить? Я не хочу становиться
похожим на них. Да и Цицерон, ну что за фигура Цицерон? Если
некто умеет бойко болтать, вовсе не обязательно цеплять на
него за это лавры мудреца, — тут Стефан самокритично
зароготал, — блаж. Августин, скоро скажут вам, делит историю на
церковную и светскую. Первой меня здесь научат? Нет, значит,
даже если то, что у вас тут изучают и можно назвать историей,
то это только пол–истории, а не вся история. Далее, есть
история политическая и история культурная, а с этим как у вас?
— Почему же ты знаешь это так подробно? — не отставал не замечавший иронии Ганс.
— Если я чем–нибудь занимаюсь, то очень серьезно, — серьезным же
тоном, безуспешно пробивавшимся через неотступившую еще
глумливость проговорил Стефан, — пойдемте в кафе есть мороженое, и
я расскажу вам о царе Нимроде.
— Но почему тогда ты изучаешь физику? — мы уже направлялись в кафе,
но Ганс решил не терять времени даром.
— Всего лишь потому, что «Lettres sur l’histoire» я, если угодно,
могу написать и свои. С физикой такой номер не пройдет,
пришлось попроситься вассалом к местным феодалам–физикам.
Мороженое — фисташковое у меня и шоколадное у Ганса — благополучно
таяло в вазочках, пока царь Нимрод, сын Куша, строил
вавилонскую башню, со странной нерешительностью на черном лице
избивал младенцев, охотясь за Авраамом, и возносился на небо в
облике Ориона, убитый Исавом в возрасте двухсот пятнадцати
лет. Наш новый друг успел кстати изложить и свое кредо — дюжину
своих кредо, поскольку одного кредо было мало
Стефану–жизнелюбу — а также расправиться с тремя порциями мороженого, а
после запить и мороженое, и беседу молочным коктейлем.
«Подобное следует завершать подобным», — хохотал он.
Стефан был неукротим, невоздержан, громкоголос и почти всегда
радостен. Он неизменно привлекал внимание окружающих, чаще всего
осуждающее внимание, поскольку безудержно жестикулировал,
рискуя искалечить какого–нибудь пешехода–неудачника, некстати
подвернувшегося под тяжелую ораторскую руку, громко хохотал и
еще громче возмущался глупости какого–нибудь античного
деятеля, апеллируя при этом к случайным встречным, шарахавшимся
от него испуганно.
Из двух своих друзей я явно предпочитал Стефана, но, по понятным
причинам, виделся чаще с Гансом. Время шло, и Ганс нравился мне
все больше. Его цепкая, хваткая память не упускала ничего
и, подобно практичному хозяину, припрятывала накопленное
наиразумнейшим образом. Он запомнил с фотографической, несколько
плоской, значит, точностью все, чему его учили в школе, и
теперь впитывал, как новенькая губка, все, что ему
преподносили в университете. Что если он переполнится? — опасался я,
тогда мне придется отжимать его, освобождая от излишков
информации, и информационные лужи расплывутся по полу нашей
гарсоньерки. Не будут ли они черными от чернил? Что скажет
квартирный хозяин? Мои опасения оказались неосновательными:
емкость гансовой памяти была если и не бесконечна, то, по крайней
мере, необозримо велика. В его познаниях было немало
чудовищных, всегда неожиданных пробелов, его манеры были ужасны, но
было совершенно ясно, что он усердно работает над собой и
вскоре поставит крепкие заплаты на злополучные прорехи. Вот
образцовый студиозус, почти восхищался я, тип пусть не
вечный, но классический, в течение последних лет пятисот, без
склонности к буйству, впрочем.
Стефан, упитанному мотыльку подобно, порхал от одной
теории–растеньица к другой, и они жалобно пригибались под его весом. Сорные
травы, при этом, интересовали его не меньше, чем
благородные лилии, и лучше переносили его воздушную тяжесть. Ганс же
врывался в науки с инстинктом здорового крота. Ходы,
прорываемые им в толще знания — той самой толще, которая была
фикцией по Стефану, были просчитаны с тщательностью, достойной
диплома кротовьей инженерии.
В моей собственной голове, слишком отягощенной уже духовным опытом,
музыкальными и иными гармониями, задерживалось лишь то, что
искренне интересовало меня, что затрагивало сознательно для
меня или подспудно самые тайные и нежные струны естества.
Уже в первом семестре я почувствовал, насколько капризна и
ленива моя память. Кажется, я не смогу стать историком,
ужаснулся я тогда. Я был положительно не в состоянии понять и
запомнить какие–нибудь стратегические тонкости, и при этом меня
охватывала жестокая дрожь бессилия от того, что я никогда не
смогу увидеть лица полководцев. Меня оставляли безучастным
проценты рабов, вольноотпущенников и свободнорожденных
граждан среди населения таких–то и таких–то римских провинций, но
как мне угадать черты тех, давно растворившихся в потомках,
пращуров? Я не мог без глубокой внутренней дрожи смотреть
также и на ничем не примечательных современников, их
генеалогические древа погребали меня под необозримыми ветвями,
оцарапывали лицо и заставляли задыхаться. Я закрывал глаза и
старался сосредоточиться. Череды печальных полувоздушных ликов
проплывали перед прикрытыми зрачками и смущали своей
явственностью.
Ганс не понял меня, когда я рассказал ему о своих чувствах. «Для
этого есть этнография», — удивился он. Его интересовало знание
ради знания, а не ассоциации, вызываемые знанием. История —
это схема, понял я.
— Да, — подтвердил Стефан, усевшись на университетском подоконнике и
посасывая конфету, — история — это схема, но вы, историки,
никогда не начертите адекватной схемы, потому что вы
понимаете в схемах — в логике, соотношениях — еще меньше, чем я в
истории. Я учусь истории вместе с вами, но я учусь не только
истории, я учусь также и математике, физике, биологии,
космографии. И этого тоже мало, это частности, детали великого
целого. Меня интересуют, на самом деле, только общие вещи. И
все эти частности, эти разнородные науки, для меня — лишь
подготовка к главному. Наука раздроблена до безобразия, да–да,
Ганс, как Европа когда–то, как горсть конфет: каждая
конфетка в своей обертке. Не то было у древних. Знание было единым,
цельным. А теперь? Просто неловко наблюдать иных... а,
практически всех ученых мужей. Все занимаются частностями,
частностями частностей, никто ничего не видит дальше собственного
носа. Пришла пора слить слабые ручейки отдельных наук в
единый могучий поток всемирного знания.
— Ты собираешься собственноручно прорыть каналы? — язвил я.
— Да, если понадобится, прорыть каналы и насыпать плотины.
— А как же оккультные науки? — обстоятельный Ганс не допускал
недомолвок, — теология, литература, искусство?
— Я говорю о настоящих науках, а не о псевдонауках, — поморщился
Стефан, — литература же — часть искусства, искусству в моей
системе будет отведено особое место. Искусствоведение —
безусловно наука, но ее нужно полностью переписать наново. С
теологией сложнее, можно, если хотите, включить ее в общую схему,
как часть философии, например, хотя занятия религиозной
философией традиционно считаются дурным тоном. Я же был близок к
тому, чтобы стать именно религиозным философом, иллюзия
всеобщности, поскольку, в религиозной философии сильна, как
нигде. Кроме того, ты, вероятнее всего, имеешь в виду
христианскую теологию, правильнее говорить о религиоведении.
— Насколько независимым от философии и религии может быть твое
универсальное знание, не придется ли его тут же дробить наново, —
допытывался я, — любые научные теории исходят из глубины
человеческого разума, универсальное знание было универсальным
знанием по Аристотелю или по Леонардо, но не по абстрактному
homo, не ограничишь ли ты человечество унификацией?
— О человечестве в целом я говорить пока не берусь, но менее всего я
намерен ограничивать свободу каждого отдельного человека.
Находясь, предположим, в городе, ты можешь свободно выбирать,
по каким улицам тебе перемещаться, а какие обходить
стороной. Но улицы должны существовать, должен быть единый план,
без которого город превращается в ничто, в беспорядочное
скопление зданий. А современная физика орудует в столь тонких
сферах, в которых уже нет разницы между веществом и идеей
вещества. Кроме того, большинство ученых–физиков — глубоко
верующие люди.
— Ты сам верующий?
— Только нежный возраст, Ганс, оправдывает твою сверхделикатность.
— Но почему ты говоришь о городе, а не о мире или, что еще
правильнее, об Универсуме? — я ощущал поверхностность и
противоречивость Стефановой теории, но сформулировать противоречие не мог
и подбирался к нему окольными путями. — Страны отделены
друг от друга и тут уж можно путешествовать только время от
времени, преодолевая естественные или искусственные препоны.
— Для мысли не существует границ.
— Как обучать новому знанию? Кто будет поддерживать целостность
знания? Человеческий мозг слаб. Если каждый ученый муж сможет
усвоить только частицу знания, чем это будет отличаться от
нынешней ситуации? Может, универсальное знание уже есть? —
спросил я.
— Не как обучать, а кого обучать — только достойных, — Стефан
посмотрел на часы и, извинившись, отправился, приплясывая, на
лекцию по биологии, которую ему хотелось послушать.
— А я? — испуганно всхлипнул Ганс ему вослед.
Стефан, единственный из нас троих был уроженцем города, в котором мы
учились, и жил со своими родителями, которых он
характеризовал так: «приличные, очень приличные люди», не вдаваясь в
детали. Исполнилось с полгода нашему, среди книжных полок
заключенному триумвирату, когда мы, младшие, удостоились чести
быть приглашенными на обед в дом Стефана.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

