Элевсинские сатиры N° 31. Умберто Эко: канон и жажда новизны
Элевсинские сатиры N° 31
Умберто Эко: канон и жажда новизны
Умберто Эко, Эволюция средневековой эстетики СПб.: Азбука-классика, 2004, ISBN 5-352-00601-8
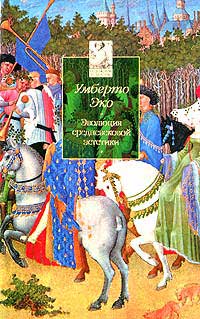 |
Есть мнение (и оно довольно распространено, несмотря на декларируемую
парадоксальность), что изучение литературы нужно начинать не с
«Илиады» и «Слова о полку Игореве», а с современной беллетристики
и постепенно отступать вглубь веков. Рассуждения о достоинствах
и недостатках педагогических методик – занятие, малопродуктивное.
Статья не о педагогике, а о порядке, матерью которого является
эстетическая анархия. Логика антихронологического подхода, меж
тем, совершенно ясна, и, систематичности ради, надо бы применять
его и в преподавании изобразительного искусства – «проходить»
всю историю искусства, начиная с абстрактной живописи («так и
я умею», ободрится юный школяр), мало-помалу демонстрируя манеры
художников и объясняя направления и стили. В качестве точки отсчета
следует брать тогда не самую современную современность, с ее сюр-нагроможденностями,
а, что-нибудь, 10-20е годы XX века. Тогда дитя в 3 года будет
рисовать как Кандинский, в 6, подружившись с линейкой, – как Малевич,
а к концу школы, глядишь, описав круг и освоив дали и выси, станет
новым Дали.
Изучить все доступные стили, примерить их на себя, попробовать,
в конце концов, порисовать немножко в каждом – и да! вырасти из
них, перерасти их и, возможно, отбросить как рваную школьную форму
третьего класса – вот какого пути хотелось бы пожелать художнику.
Право в 18 лет вопить о нигилизме дает умение в 17 рисовать как
Дюрер. Но дело не только в мастерстве рисовальщика.
Произведение искусства, ибо, это не просто кусок камня или пятна
краски. За любом артефактом тянется шлейф коннотаций, историй,
мифов. В простейшем случае (для нового или неизвестного произведения)
имеем пару: форма/содержание, унаследованную, как минимум, из
средневековья.
Позволю себе длинную цитату.
«Литература того времени превыше всего ставила не форму, а содержание.
Однако подобные концепции никогда не вели к выхолащиванию искусства
ради прямолинейной и примитивной дидактики. Истина состоит в том,
что для человека Средневековья было трудно различить две упомянутые
ценности, и вовсе не из-за недостатка критичности, но из-за слияния
этических и эстетических реакций, видения жизни в ее нерасторжимом
единстве. Даже сегодня можно уловить то положительное, что заключено
в подобном мировоззрении, поскольку одной из тем современной философии
является как раз потребность человека нашей цивилизации в жизненной
целостности. Конечно, способы, которыми пользовались люди Средневековья,
нам не подходят, но предлагаемая ими парадигма может стать исходной
базой для ценных наблюдений. Эстетические доктрины Средневековья
оказывают при этом существенную помощь. Не случайно одной из самых
насущных проблем схоластической эстетики была именно проблема
единения прекрасного с иными ценностями на метафизическом уровне.»
(стр. 40-41)
Жизненная целостность – у каждого артифекса она теперь своя. Господствующей
концепции нет или она выражена вяло, или... она наскучила. Произведение
искусства – это то, что изображено и то, что осталось за кадром
(cadre – рамка). Прежде это оставшееся было всякому понятно или,
по меньшей мере, было понятно тем, кому было адресовано. Нынешнее
«я не знаю, что он хотел этим сказать» предполагает не непросвещенность
зрителя, а сарказм по отношению к художнику.
Мы подошли к существенному (а возможно, и единственному) отличию
средневекового подхода к эстетике от современного. Прежде: красота
есть благо. Поэтому воспроизведение канона есть умножение добра.
Ныне: новизна есть благо. Чем меньше углубляться в историю искусств,
тем проще узреть новизну, кстати.
И система выворачивается наизнанку: видя артефакт, выполненный
без отступления от того или иного канона, зритель недоволен. Ему
нужно нарушение канона, девиация, иначе произведение покажется
ему неинтересным, устаревшим и даже смешным. Это значит, нынешний
зритель, в основном, цепляется за форму, какая бы она ни была.
Даже если принимает ее ошибочно за отсутствие формы.
Жажда канона, меж тем, проявляет себя в атавизмах. По моим наблюдениям,
зритель попроще очень радостно воспринимает узнаваемый сюжет,
перверсивно искаженный (Мона Лиза с усами и пр.) Образуются новые,
фольклорные каноны, обросшие системами никогда, возможно, не сформулированных
условностей. Повесить банальную репродукцию Моны Лизы на стену
– пошлость. Даже с пакетом таким таскаться – пошлость. Рисовать
Мону Лизу в духе Уорхола – пошлость (впрочем, когда это деньги
были пошлыми?!). Повесить такое на стену, даже в виде репродукции
– постмодерн и современный дизайн.
Любая новая идея – это перераспределение имеющихся. Что это значит?
А то, что новые идеи во-первых, возможны, а, во-вторых, нет. Наподобие
перекраивания географической карты. Или, скорее, процедуры дефрагментации
жесткого диска – страны и доктрины виртуальны, их можно перемещать.
В области искусства это звучит вот как: мы разделили сакральное
и профаническое (первое определили на помойку, но это уже несколько
другая тема), мы отделили философию от религиозной схоластики,
школу от государства и т.д. Что же объединилось? Звучит грубовато
и приблизительно, как любой дуализм: объединилось хорошее и плохое.
Здесь потребуются определения. Хорошее и плохое в случае канона
являются синонимами прекрасного и некрасивого. В сферах эстетической
анархии единство мнений, в принципе, невозможно. Зато мошенничеству
– нет границ. Понятно, жизнь человеческая состоит из иллюзий.
Но прежний обман – величественное действо и кропотливая работа,
требующая долгой учебы. Для нынешнего арт-надувательства порой
необязательно тратиться на холсты и краски; не говоря уж о том,
чтобы что-то изучать.
Ломка канона ради ломки канона сродни народному бунту – бессмысленному
и беспощадному. Это оправдано только тогда, когда можешь предложить
что-то, что способно стать новым каноном. Умеренная ломка, расшатывание
канона на деле оказывается шатанием возле канона. Канон, как магнит
– железо, как место злодейства – преступника тянет к себе назад.
Т.е. о ломке фактически речь не идет. Мнимая революция не вытягивает
на звание реформы даже. Но это полбеды. Главная опасность ломки
канона состоит в том, что одна бессмысленность (непонимание смысла
канона) заменяется другой бессмысленностью – отсутствием смысла
вообще. (Здесь намечается тема интуитивности в искусстве – как
интуитивности творца, так и зрителя, иной раз очень точно выхватывающего
«настоящее» из ряда почти одинаковых образцов. Об этом разговор
впереди.)
Но и эта бессмысленность, мнится, скоро закончится. Самая современная
абстрактная живопись – это уже не мазня, наляпанная за полчаса
малярными кистями, а кропотливая мастерская работа. В игру входит
новый канон – профессионализм. Исподволь в канон, таким образом,
возводится не форма (нет жестких предписаний насчет композиции)
и не содержание (жесткого списка сюжетов тоже нет), а умение.
Ничего просвещеннее вариаций на тему «время рассудит», здесь,
пожалуй, не скажешь.
Не всегда удается отличить расцвет от упадка. Даже современникам.
Хотя бы и Боэцию, о котором неизменно вспоминают, как только речь
заходит о крахе Империи. Говорит о нем и Эко. «В эпоху варваров,
в которой он живет, книжная цивилизация почти ничего не значит.
Европейский кризис достиг одной из своих трагических точек.» (стр.62)
Увы, такое можно сказать о почти любой стране в почти любой период
ее истории. В сетованиях Боэция все-таки слишком много от ностальгии
по старому доброму времени. Но историю Рима читали все.
Все гадкое, что написано про Рим, верно. Все хорошее тоже верно.
Так вопросы эстетики опять сводятся если не к морали, то к метаистории.
Истинное бескультурье (=отсутствие канона) следует отличать от
чуждой культуры (иного, непривычного канона). Первый признак вот
какой: бескультурье зарождается внутри культуры, а не вне ее.
Свои, родные агрессивные недоучки – вот кто враг культуры, а не
какие-то абстрактные варвары, пахнущие чем-то не тем. Ломку канона
изнутри следует отличать от ломки извне. Первая гораздо опаснее.
За «дикими» варварскими народами, столь удручавшими последнего
римлянина, тоже стояла древняя – другая – культура. Многое перенимали,
пробовали, пытались воспроизвести. Получалось кривенечко. Но что
думают, например, японцы о наших, например, ориенталистских потугах,
об иероглифах, намалеванных толстыми пальцами, более привычными
к пивным кружкам...
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

