Школьный психиатр. Продолжение
***
Несколько дней прошли как-то бессмысленно, легко. Вторник и среда
были абсолютно пусты: стоматологический кабинет закрыт, завуч
уехала на какой-то совет старших учителей в подмосковный санаторий,
и даже спокойная девочка перестала попадаться мне на глаза. Ко
мне заходили странные дети, жаловались на учителей, заходили странные
учителя, жаловались на детей. Все считали друг дружку психами,
да и во мне тревожно высматривали примитивные, знакомые по книгам
и фильмам симптомы. Я отделывался от детей банальными тестами
и увещеваниями, убеждал смириться и взывал к терпению учителей.
Они смотрели на меня как на ничтожество. Как-то пришлось рассказать
одному мальчонке длинную, на ходу выдуманную и нескладную сказку
о пеликане-неудачнике, спасшем жизнь рыбаку, одиноко дрейфующему
на льдине. Мальчик носил очки с безнадежно толстыми линзами, в
пестрой перламутровой оправе, и все время плакал. Пришел в слезах,
жалуясь на одноклассников, и ушел с глазами на мокром месте, сочувствуя
успеху скромной, затюканной птицы, принесшей, в конце концов,
пользу. Раз как-то зашел Саша и долго перебирал какие-то дурацкие
кружочки с картинками из японских мультиков, сопя и показывая
мне того или иного героя, значительно и отрывисто именуя каждого,
словно готовя меня к экзамену по истории пустоты. Затем вдруг
пустился в долгий рассказ о контрольной по математике, которую
он всю решил в уме, но ничего не записал и получил «два».
— А почему не записал?
— Я ручку Голубевой отдал. Она дома забыла.
— А у тебя запасная была?
Саша отрицательно покачал головой. На вопрос о его подружке и
прогулках по тонкому льду, о которых мне поведала повариха, Саша
промолчал, затем, подражая, наверное, какому-то фантастическому
животному, зашипел и, спрыгнув со стула, пятясь задом вышел из
кабинета. «Ну и плевать на тебя»,— подумал я беззлобно и включил
радио. Да, кстати, я принес в кабинет свой старый приемник.
Ярослав и компания затихли, получив мою отповедь их психозам.
Несколько раз я видел их сидящими на перилах на третьем этаже,
над зияющей бетонной пропастью лестничного пролета. Подумаешь,
рисковые какие. Я внимательно посмотрел на его друзей, один из
них действительно был весьма женоподобен, но, возможно, из-за
своих дурацких длинных волос, расчесанных и чистых, и целой кучи
нелепых, пестрых нитяных браслетов и цепочек с полушаманскими
талисманчиками. Колоритная компания посмотрела мне вслед с насмешливым
недоумением, за моей спиной издеваясь над моими постоянными посещениями
самого чистого и душистого девичьего туалета в школе.
В общем, я привыкал к школе, настраивался на ее суетный, бессмысленный
лад, покорялся режиму питания и заново учился не бояться детей.
Иногда я ощущал себя неким призраком, замечаемым немногими, лишь
особо одаренными детьми. Для остальных же я был не примечательней
пыльного солнечного луча, сквозь который проходишь по коридору,
или жвачки, приклеенной к нижней крышке стола.
***
Наступил пасмурный, сырой четверг. Дорога к школе далась с трудом.
Я наблюдал не выходящее за рамки обыденности пробуждение спального
района, тонувшего и всплывающего уродливыми гудронными крышами
домов над многочисленными холмами, обледенелыми и серыми от еще
не стаявшего до конца снега. Машины, уютно окружавшие невысокие,
в желтоватых потеках оттепели, дома, пускали неохотный дым, тихо
шелестели прогревавшиеся двигатели, люди в машинах проводили сладкие
мгновенья полузабытья, лишившись недавней необходимости стряхивать
с машин снег.
По пути, глядя на торжественный, прибранный ряд зеленых помойных
контейнеров, я вдруг вспомнил сегодняшний сон. Мне приснилось,
что какой-то мальчик решил покончить с собой прямо в школе. Он
взобрался под темный ребристый потолок спортзала по затроганному
сотнями детских рук канату, у самого потолка хранившему еще белизну,
и отстегнул его от монументального крюка, на котором тот висел.
Этот способ явно не был придуман мною во сне, я, кажется, видел
нечто подобное в каком-то кино, чуть ли не советском... Канат
упал, словно поверженный змий, а мальчик остался висеть под потолком,
держась одной рукой, без движенья, с туповатой выжидательностью.
Потом мне снилось, что я сижу в своем кабинете, набиваю трубку,
и туда вбегает повариха и зовет меня в спортзал. Я во сне, хоть
и прекрасно знал, что стряслось, но все же почему-то стал предполагать,
что с физруком случился удар от водки. «Нет!»,— решительно отвечала
женщина. «Скорее! Нужна ваша помощь!»
Мы ужасно долго брели в спортзал, просто чудовищно; я уже начал
(почему-то со смехом) говорить, что физрук помер, а мальчик давно
упал и лежит сейчас, плача и держась за вывихнутую лодыжку, проклиная
себя и весь мир, а девочки в коротких синих шортах смущенно переглядываются
и хихикают...
Однако повариха продолжала вести меня по немыслимым коридорам,
мимо открытых дверей, за которыми шли занятия в классах. Детей
в кабинетах было ужасно много, и это были не отдельные кабинеты,
а некий гигантский общий ангар, объединенный разными входами.
Наконец мы пришли в спортзал. Он оказался без стен, словно платформа.
Две бетонные плоскости потолка и пола соединялись тонкими, изящными
колоннами, и эта небывалая конструкция как бы парила над школой,
тяжело покачиваясь, словно паром, привязанный стальным канатом.
Весь зал был наполнен детьми, а вокруг места теоретического падения
мальчика образовался скромный кружок, в котором стояли учителя.
Над толпой гулял слабый ветерок, теребя безжизненные волосы молодых
потаскушек. Физрук держал в руках оторванный мальчиком канат,
рассеянно поглаживая железную петлю крепления. У физрука были
заплаканные глаза, и похож он был на индейца — такое же статичное,
невыразительное лицо, не лицо, а маска всепонимания. Когда я вошел,
толпа воззрилась на меня и загалдела. В глазах у завуча стояла
невыносимая надежда. Все почему-то рассчитывали на меня, что именно
я спасу мальчика. Литераторша почтительно протянула мне увеличительное
стекло, я направил его на мальчика, висящего под потолком, и мне
показалось, что это Ярослав, хотя и гораздо моложе, в возрасте
Саши. Благодаря увеличительному стеклу я не только увидел, но
и почувствовал вдруг неимоверную, болезненную усталость мальчика.
Далее, я окончательно перестал контролировать свой образ и превратился
в наблюдателя внутри себя. Я понял, что лезу по соседнему канату
вверх, к мальчику, что лезть тяжело и как-то скользко. Канат смазан
каким-то салом, чтобы детям труднее было лазить. Сделав несколько
неудачных попыток, я понимаю, что не смогу залезть. Бессильная
ярость охватывает меня, я кричу, чтобы все выметались из зала.
Все почему-то слушаются и потихоньку выходят. Пока все выходят,
я раскачиваюсь на канате, и напеваю какую-то заунывную песню.
— Ну что, может, слезешь, пока никто не видит? — спрашиваю я мальчика,
когда мы остаемся одни.
— Да как? — раздраженно отвечает он.— Нужно канат надеть обратно...
— Да, проблема...— равнодушно говорю я. Ветер плутает меж колонн
со странным гулом, легким и сухим на звук, падает нарезанный мрамором
солнечный свет, рисуя прямоугольники на пыльном, терпком полу
спортзала. Во мне растет раздражение против мальчишки, я вдруг
понимаю, что никакой опасности нет. Я перестаю раскачиваться на
канате и любуюсь бабочкой, пролетающей сквозь тяжелый, солнечный
и пыльный воздух спортзала. Я не заметил, в какой момент исчезли
колонны и зал снова стал обыкновенным.
— Вы не подадите мне канат? — вежливо спрашивает мальчишка.
— Я бы с радостью, мой мальчик, да только вот не дотянуться мне.
— Может, можно... добросить?
Я понимаю, что прекрасно контролирую слова мальчика. И вообще,
скорее всего, это я сам болтаюсь под потолком, в одном из своих
детских пароксизмов самоотрицания.
Меня вдруг охватывает скукой и безысходностью. Я чувствую, что
мальчика не спасти, но он и не погибнет, а только испытает боль
при падении, и эта боль передастся и мне. Мне уже снился этот
сон, снилась эта боль падения, после которой мне в детстве было
страшно лазить на канат. Это был мой детский сон, и сейчас я получил
возможность рассмотреть его с точки зрения взрослого человека.
Сон не выдержал этого понимания и лопнул, вытолкнув меня назад.
Я проснулся с ощущением ожидания.
***
Школа таилась, окруженная мертвыми голыми деревьями. Ее недавно
выкрашенные бордовым цветом стены словно символизировали какую-то
переспелость. Вокруг была тишина, уроки уже начались, и я, опрометчиво
забыв, что виден из двадцати с лишним окон, пошел на пространный
школьный двор. Это было огромное футбольное поле, идеально ровное,
в мелкой буро-коричневой траве и черных вытоптанных проплешинах
возле ворот, потускневшее, гулкое железо которых было выкрашено
черно-белыми секторами. По краям поля уцелела известковая разметка,
а за его границами блекло-разноцветными призраками стояли турники,
лесенки и прочие стальные изобретения для сворачивания детских
шей, напоминавшие остов крошечного сказочного мирка.
Я пробежался по полю, представив мяч и некую цель для удара этим
мячом, и понял, что с удовольствием погонял бы в футбол именно
на этом поле, по-весеннему грязном, но жестком и утоптанном. Я
дошел до турников, где дал полуатрофировавшимся своим мышцам когда-то
привычное задание. С удовлетворением я отметил, что еще не бесповоротно
отяжелел, но выход на две дался мне с таким трудом, что стало
противно. Я мстительно насиловал себя упражнениями, пока в глазах
не помутнело, и не забегали яркие черно-белые жуки. Тогда, тяжело
дыша и трогая сердце с идиотским удивлением — бьется-то как! —
я уселся посреди песочницы для прыжков в длину, с темным, сырым
песком и окурками.
Довольно долго я сидел, тоскуя по ограниченным и ярким чувствам,
испытанным мною во сне. Я пытался вспомнить, видел ли я себя взрослого,
когда мне в детстве снился этот сон. Тогда я висел под потолком
и не мог отпустить руку и упасть, потому что все на меня смотрели.
Поэтому сегодня я и прогнал оттуда всех, испытывая ужас: вдруг
никто не послушает и жадные до смерти дети останутся тупо стоять
в зале, шурша и лопаясь жвачными пузырями... Но я все же позволил
себе упасть — это падение я помню — в ту ночь я впервые в жизни
проснулся с рассветом и долго удивленно пялился на казавшуюся
мне сверхъестественной кроваво-розовую облачную красоту.
Я с удовольствием курил трубку, пока паническая мысль о том, каким
идиотом я выгляжу для недоумков-детей и скептических настроенных
к новичку учительниц не отравила мне отдых. Выбив трубку о подошву
и смешав теплый, рассыпчатый пепел с влажным, прилипчивым песком,
я поспешил в школу, ощущая себя чуть ли не оплеванным актером.
Входная дверь тяжело захлопнулась за мной, меня встретил уютный
запах то ли пищи, то ли пота, огромные белые часы с агрессивным
безликим циферблатом и бледная, сводчатая перспектива стеклянного
коридора. Я проследовал по тихому холлу первого этажа к двери
своего кабинета. В раздевалке, между немыми рядами одежд в каком-то
замкнутом поиске шествовала нянечка, развешивая шарфы и варежки
по местам. Она что-то тихо завывала, или бормотала, и посмотрела
сквозь меня, когда я слабо поклонился ей. Пока я возился со своим
замком, я прислушивался к нервическому перешептыванию двух девочек,
дежурных по этажам, а также с некоторым даже удовлетворением отметил,
что из кабинета стоматологии доносились ноющие и сверлящие звуки.
Мой кабинет был нем и пуст, воздух в нем как-то странно отравился.
Комната имела вид застрявшей во времени декорации, места, которое
нельзя привести в движение, обжить. Принесенные мной кое-какие
книги, приемник, чайник и тапочки выглядели не смягчающими обстоятельствами
безликого кабинетного естества, а лишь нервичным, жалостливым
дерганьем испуганного человека. Я начал панически соображать,
как еще оживить свое рабочее пространство, автоматически раздеваясь
до носков и напяливая тапочки. По полу тянуло холодком, я задрал
ноги на стол и рассеянно взял в руки оставленные давеча на столе
картотеки. Вчера мне удалось найти Сашино дело: мальчик и впрямь
был очень странным. Во-первых, он был не так мал — пятый класс,
но совсем не развит физически. В первом и втором классах его считали
чуть ли не гением, так что даже перекинули на класс вперед, после
чего мальчик потерял интерес к учебе, перестал расти и, кажется,
стал проявлять признаки чрезмерной замкнутости. Конечно, причина
где-то в семье, так что, как я ни ненавижу это, а придется выходить
на контакт с родителями Саши.
Мне кажется, стук в дверь родился из моего предчувствия стука.
Иногда, во всяких таких мелочах, меня преследует какая-то дурацкая
сверхпроницательность. Или, может, это обыкновенное мысленное
притягивание неприятностей, не знаю. Я никогда не гоню тяжелые
мысли. Они облепляют меня, как мухи, и питаются какой-то душевной
слизью, принадлежащей мне.
Тем не менее, вошел мальчик лет десяти, с какой-то нелепой улыбочкой,
худощавый, подвижный и явно лишенный сдерживающих факторов поведения.
Все его знания о типовом пиетете к старшим ограничились скомканным,
придурковатым «здрасьте». В этом было что-то отвратительное, я
мигом представил, как этот щенок капризничает за обедом или поливает
грязью какого-нибудь тихого, заторможенного одноклассника.
— Здравствуйте, молодой человек,— произнес я. Безусловно, это
было худшим приветствием.— С чем пожаловали?
— Мы пожаловали с тем, что Клавдия Дмитриевна нас послала сюда.
Иди, говорит, Петя, и пока с тобой психиатр не поговорит, не возвращайся.
— А вы что же, прямо так и пошли, как честный мальчик?
— А я и есть честный мальчик.
Мальчишка почесал свою светловолосую голову. Первоначальный мой
шок прошел, я анализировал свою ненависть к мальчику. Действительной
причины найти не удалось, я чувствовал себя слишком неуверенно
на зыбкой почве его шутовства.
— Что же, присаживайтесь, честный человек.
Не знаю, что заставляло меня поддерживать этот шутейный тон.
— Спасибо,— он чуть ли не заискивающе улыбнулся, сел, как-то сгорбившись,
и стал похож на карикатурного китайца. Он все время почесывался,
я узнал в этом некоторый родственный мне нервический жест. Положительно,
маленький психопат начинал мне нравиться.
— Ну, что там у вас с Клавдией Дмитриевной?
— Да ерунда какая-то.
— Наверное, если б это было ерундой, она бы не посылала тебя ко
мне...
— Да это у нее еще старинная идея, меня к психиатру направить...
Даже родителям советовали, только мама обиделась и чуть ее саму
не послала... А теперь вот вы появились.
— Но что-то же послужило поводом, не правда ли?
— Да, она юмора не понимает.
— Наверное, она просто не принимает.
— Чего не принимает?
— Юмора! Чего ж еще? На уроках не терпит веселья. Что за предмет?
— География...
Я представил себе несколько блеклых карт, скучную таблицу роста
численности граждан КНР за 1989 год на странице учебника и усталую,
молодую пышногрудую училку, брюнетку с подведенными глазами.
— Тебе скучно на ее уроках?
— Ну, в общем, да.
— И что ты делаешь, чтобы развлечься?
— Ну, так... Рисую, пою, болтаю, вспоминаю...
— Что вспоминаешь-то?
— Один день. Мне как-то приснился голос, который сказал, что я
умру в следующую субботу. И вот я пытаюсь вспомнить, что я делал
в тот день, когда ждал, что умру...
— Это когда было?
— Да осенью этой.
— Хочешь, я тебя загипнотизирую? — неожиданно произнес я.
— Это зачем? Чтобы я как зомби стал?
— Ну, не совсем. Просто ты вроде как уснешь, и будешь путешествовать
во времени. Может, вспомнишь тот день...
— Давайте,— равнодушно произнес он.
— Хорошо. Садись поудобнее, расслабься... Или лучше вот что —
ложись-ка на эту кушетку.
Пока шалопай передвигал свои ленивые ноги, я лихорадочно пытался
вспомнить фрагмент из какого-нибудь фильма, посвященный гипнозу.
Я, к сожалению, не имел ни малейшего представления о том, как
это делается. Ученик, наконец, взобрался на жесткую, обитую клеенкой
кровать, не удосужившись даже разуться. Впрочем, тем, возможно,
и лучше.
— Итак... Погоди, а как Клавдия Дмитриевна поймет, что ты был
у меня?
— Не знаю, как она поймет. Я вчера пришел просто так, говорю:
«Был я у вашего псих-доктора, поговорили, хороший мужик, только
курит много», а она: «Рябинин, из класса долой! К психиатру шагом
арш!». Не поверила, представляете?
— М-да... А твое имя...
— Петя.
— Ага... Значит, курит много? — машинально переспросил я, пытаясь
вспомнить учительское общество в столовой и догадаться, кто была
эта проницательная Клавдия Дмитриевна.
— Ну да. Полкоридора табачищем вашим провоняло,— безапелляционность,
с которой Петя выговаривал все это, лежа на спине, держа руки
как-то закрепощено, по швам, была мне каким-то странным образом
приятна. Я понял, что вся беда этого мальчишки в том, что он не
умеет держать язык за зубами и выговаривает все, что удачно ложится
наперекор общему мнению. Может быть, он часто и порой удачно —
по мнению одноклассников — острит, может, обращает слишком много
внимания на девчонок в классе... Наверное, способен хамить учителю,
но вряд ли злоупотребляет этим.
— Гм,— пробурчал я.— Не знаю. У меня хороший табак, не то, что
вы на переменах курите... Ладно, это пустое все. Ты лучше-ка расслабься,
закрой глаза... Так, полностью расслабься, дыши глубоко и медленно,
вдох, выдох... Как волны на море — вдо-о-ох, вы-ы-ы-дох, вдо-о-о-о-х,
вы-ы-ы-дох... На море-то был?
— Угу,— пробурчал неохотно Петя, будто сосредоточившись на чем-то.
— Дыши, тело расслабленно, руки неподъемны, тебя сковывает тяжесть,
чувствуешь, ты словно исчезаешь, твое тело есть море, оно растекается
и собирается, вдох, выдох, растеклось, собралось... Думай о том,
что ты ни о чем не думаешь, повторяй про себя: «Я ни о чем не
думаю, я ни о чем не думаю», так, продолжай...
Говоря все это, я глядел в окно, на замершие в весенней истоме
клены. Посреди собственной фразы я начал ощущать какой-то непоправимый
разлад внутри себя, мне даже вдруг показалось, что я вспомнил
тот день, тот миг, то обстоятельство, при котором какая-то важная
частица души покинула меня... Петя подозрительно затих на кушетке.
Лицо его было несколько тревожно нахмурено, руки слабо подрагивали.
Рот был искривлен, словно в плачущей гримасе, только слабо, будто
это слабый отголосок его плача во сне, едва дошедшая до тела подсознательная
эмоция.
— Я ни о чем не думаю я ни о чем не думаю я ни о чем не думаю...—
вдруг затараторил мальчишка. Я обеспокоено глянул на него: уж
не делает ли он вид, что и впрямь впал в какой-то транс? Это было
бы удивительно...
— Ни о чем не думаю ни о чем не думаю...
— Суббота,— сказал я не то что бы тихо, но равнодушно. Петя притих
ненадолго, затем заулыбался.— Ты умрешь в эту субботу. Припомни-ка...
Улыбка сползла с его лица.
— Выпал снег с утра... Я хотел долго поспать, но проснулся раньше
всех. Засыпал когда, забыл, но проснулся и сразу вспомнил...
Петя говорил тревожно и в то же время отстранено. Было довольно
жутко, учитывая безжизненный солнечный свет, лившийся от окна,
из затерянной тишины заднего школьного двора, на который выходило
окно кабинета. Я весь напрягся и как-то затосковал особенно, почти
как в детстве, перед самой отправкой в летний санаторий.
— Все спят, вставать не за чем... Ничего не хочется, лежать невозможно,
в кровати какие-то крошки дурацкие... За окном небо серое, низкое,
я смотрю, как в некоторых местах оно сливается с цветом балкона...
Тишина, соседи спят... Я вспоминаю, как они долго вчера ссорились,
а затем ночью меня разбудил какой-то стон... Так и не понял, отчего
стонали и кто, кажется, соседка... Ночь рваная вышла вся, ходил
в туалет в темноте, звуки страшные свет такой яркий... Тяжело
стоять... Я вспоминаю про голос, думаю, что надо весь день пролежать
в кровати, тогда смерть не заметит меня... Начинаю ждать смерть.
Мне чудятся шаги в коридоре. Это папа. Мне страшно, папа заглядывает
в мою комнату, у него вздутое заспанное лицо... Я притворяюсь
спящим, он закрывает дверь в мою комнату. Теперь я отрезан от
квартиры, я должен сидеть в комнате... В комнате тесно, пыльно...
Я иду на балкон. Прохладно, свежо. Я хочу открыть балконное окно,
но оконная рама защелкнута на верхний шпингалет... Приставляю
стремянку, открываю верхний замок... Окно не открывается, оно
как-то застряло, словно село или искривилось от сырости... Вчера
весь день шел дождь, и ночью, кажется... Я толкаю окно, не поддается,
толкаю сильней, оно распахивается, я теряю опору и равновесие,
я па-а!..
Петин голос оборвался коротким вскриком, после чего он весь как-то
вытянулся и напрягся, судорожно и слепо перебирая руками в воздухе.
Глаза его были сомкнуты и удивительно напоминали пуповины, все
лицо искривлено гримасой отчаяния и боли. Мне показалось, что
ребенок вот-вот взорвется или сойдет с ума. Я, охваченный паникой,
судорожно и неумело натягивал ботинки, чтобы бежать куда угодно,
подальше отсюда. Я видел, что в кабинет заглянула стоматологичка,
ощутимо вздрогнула, увидев скорченного Петю, и выскочила. Я все
пытался напялить ботинки, из которых будто бы исчезло внутреннее
пространство, как если бы это были ботинки, принадлежавшие статуе.
Я понял, что уже около минуты ощущаю себя статуей, и только моя
душа, ошпаренная ужасом, мечется в расширенном от стресса пространстве
моего тела.
— Петя, проснись! — вдруг заорал я. Влетела стоматологичка, начала
совать какой-то пузырек под нос мальчику. Тот, продолжая слабо
подрагивать всем телом, открыл глаза, озираясь вокруг с каким-то
пустым спокойствием, слегка удивленно, будто впервые осознав наличие
предметов и вообще внешней жизни.
— Вот, так, тихо, спокойно, тихо-тихо-тихо...— стоматологичка
буквально ворковала над приходящим в себя мальчишкой. Я как был
в одном ботинке, вышел вон из кабинета, прихватив второй с собою.
На крыльце басистые старшеклассники обменивались тяжеловесными
анекдотами. Их хохот показался мне вымученным, рожденным в раскаленных
горнилах страха перед одиночеством и желания казаться пригодным
к основным событиям подростковой жизни.
Напялив, в конце концов, непослушный ботинок, я стал исследовать
свои карманы, обнаруживая со злобой, что забыл трубку в кабинете.
Вернуться туда сейчас казалось мне невозможным.
— Господа, не угостите ли папиросой? — спросил я после нескольких
секунд нелепой борьбы с собой.
С лестной поспешностью я был одарен белым цилиндриком. Сигарета
показалась мне какой-то ватной на ощупь, я растерянно теребил
ее в руках, не замечая пламени зажигалки, выставленного на максимум
и полыхающего, как вечный огонь, возле моего лица.
— Прикуривайте,— произнес подросток. Я мельком глянул на его блестящее,
угреватое лицо, со странным кофейным оттенком вокруг низко посаженных,
будто подслеповатых глаз. По всему лицу его в каком-то удивительном
хаосе были растыканы требовательные, чернявые волосенки. Я прикурил,
подавив тошноту и закрыв глаза, чтобы не видеть мясистых пальцев
с утопленными в сырой, желто-розовой плоти ногтями.
— Спасибо,— выдавил я. Мне нужно было тут же, прямо сейчас уйти,
но я сделал опрометчивый вялый жест головой и как-то неохотно
стал отходить, так, что последовал вопрос:
— А это вы психолог?
— Да-а...— протянул я.
Молодежь понятливо притихла, жадно куря и давясь в уме недооформленными
восклицаниями интереса и восторженной симпатией ко мне. Я решил
не дожидаться очередной бестактности и спросил сам:
— Говорят, на какой-то пикник за город поедем? Вы-то как?
Они засмеялись, переглядываясь с таким видом, будто я спросил,
кто из них уже переспал с девчонкой.
— Пикник, да — как-то неоднозначно промямлил наконец тот, что
дал мне прикурить.— Высадка на пересеченной местности...
Они опять загадочно заржали. По-видимому, это была аллюзия на
какой-нибудь армейский анекдот, только что рассказанный. Я выдавил
смешок, с ужасом чувствуя, как разум податливо склоняется к бессмысленной
вежливости. Надо было курить скорее, но сигарета не лезла в меня,
я мучительно подавлял кашель, недоумевая, что за дрянь они курят.
— А вы уже это... Ну, выявили это... психа какого-нибудь? — спросил
вдруг самый рослый детина, долго топча окурок ногой.
— Да.
— Из какого класса?
— Не из какого. Не из класса,— поправился я устало. Мне было лень
доводить эту шутку до конца.
— А откуда?
— Просто из жизни.
— И где он?
— Перед вами.
Некоторое время они молчали, недоуменно переглядываясь, пытаясь
понять, не имею ли я кого-нибудь из них в виду. Затем начали смущенно
прыскать задавленными смешками. В их глазах теплилось пренебрежение.
Вялого веселья хватило, все же, чтобы раздалась очередная глупость:
— А скажите, это очень... ну, плохо, что мне не снятся эротические
сны? — Спросивший парень смотрел на меня как-то слишком весело.
Я угадал за насмешкой настоящую тревогу пополам с гордостью, и
мне стало вдруг значительно легче, как-то прояснилось и обеззлобилось
на душе, словно я получил какие-то легкие деньги или помог женщине
затащить коляску по лестнице в подъезд.
— Это прекрасно,— как-то даже выспренно произнес я.— Это просто
здорово.
Молодые питекантропы недоуменно, с затаенными во взглядах ухмылками
переглядывались.
— Ладно, я пошел,— заявил, наконец, самый рослый детина. Все побросали
окурки и начал спускаться по заплеванной лестнице. Задавший вопрос
юноша замешкался, и, смущенно обратив ко мне беззащитное, все
в каком-то белесом пушке и рытвинах от выдавленных прыщей лицо,
спросил:
— А нормально, когда ты умираешь во сне?
Я смотрел на мелкие волоски, в дружном обилии росшие на кончике
его носа, и меня пробирала жажда насилия. Собраться с мыслями
мне было не так уж просто.
— Ну, в принципе нормально. Да... Но если тебя это беспокоит,
и ты хочешь обсудить это подробней, заходи ко мне в кабинет.
— Хорошо.
Он еще посмотрел на меня пару секунд как-то излишне внимательно,
словно пытаясь вообразить себе нашу следующую встречу, а затем
оставил меня одного, среди прихваченных весенним морозцем плевков
и окурков, катаемых весело ветром. Некоторое время я наслаждался
одиночеством, пока несколько маленьких, серьезных девочек не вышли
из школы. Я замерз, пока глядел, как они размеренным, бодрым шагом
шли через футбольное поле.
***
— Что это за бесчеловечные опыты вы тут проводите? — со снисходительным
любопытством спросила меня стоматологичка, когда я, замерзший,
потирающий руки и плечи, вошел в кабинет. Пети не было. Стоматологичка
встала с кушетки и, засунув руки в карманы, отошла к окну. Я не
мог ей ничего ответить, размышляя, какова будет ее реакция, если
я вдруг скажу, что люблю ее. Устало вздохнув, я молча сел на кушетку.
— Вы собираетесь отвечать? — в ее голосе была карательная внимательность.
— Да-да.
Она скептически покивала головой и отвернулась к окну.
— Я вроде как загипнотизировал его. Он разве не сказал вам?
— Он не помнит.
— Чего не помнит?
— Да ничего, фактически. Помнит, что пришел к вам, что наврал
чего-то про тетю Клаву, а потом очнулся на этой больничной кушетке...
— Да, глупо вышло...
— Глупо?
— Уверяю вас, ничего страшного с ним бы не произошло,— сухо выдавил
я.
— Теперь легко говорить.
— Да и говорить не о чем. Просто неожиданная реакция, возможно,
следствие какой-то детской травмы...
— А что же вы сбежали отсюда, как истеричка?
— Отлично. Слово найдено.
Она усмехнулась, затем грациозно отвернулась от окна ко мне лицом
и, со странной, оценивающей усмешкой глянув на меня, вдруг плюхнулась
в мое кресло и положила ноги на стол, скинув двумя легкими движениями
свои туфли. Обнажились ее изящно скомканные тесной обувью ступни,
худые, с длинными, смешными трапециевидными пальцами. Затем она
сделала вид, что затягивается трубкой, и, изобразив на лице тяжелую
задумчивость, начала медленно листать мою картотеку. Она что-то
беззвучно шептала, возвращалась от страницы к странице, хмурясь
и изредка похохатывая. Я с ужасом узнал свои безумные ужимки.
Особенно когда стоматологичка запустила руку под майку и шумно
почесалась. Это было оскорбительным и в то же время захватывающим
зрелищем...
Стоматологичка вдруг вскинула брови и посмотрела на меня испуганно.
— С чем пожаловали, молодой человек?
Я стоял в смятении, лишь вздыхая и улыбаясь бессмысленно, не в
силах участвовать в спектакле, затеянном стоматологичкой.
Стоматологичка нервно побарабанила пальцами по столу, затем улыбнулась
глупо и пробормотала:
— Ну, что же вы молчите? Давайте я хоть вас загипнотизирую?..
Делать-то все равно нечего...
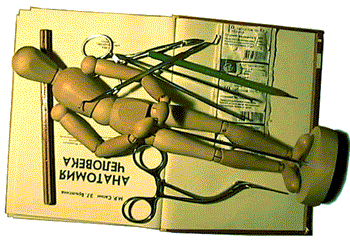 |
| Иллюстрация А. Капнинского |
Я вдруг понял всю ужасающую, глобальную мощь своего позора. Я
представил себе, как стоматологичка через какую-то потайную щель
наблюдала за мной все эти дни из своего пропахшего детскими ртами
убежища, заполняя собственные тоскливые будни зрелищем нового
диковинного зверька. С холодным, равнодушным любопытством, без
интереса, с легкой брезгливостью, от нечего делать... Мне подумалось,
что возможно так же она смотрела бы на меня, если б я упал с корабля
в воду и она, единственный свидетель этого, медлила бы бросить
мне спасательный круг. Просто стояла бы и любовалась моими неловкими
действиями в темной, медленно разделяющей нас воде.
— Как прикажете понимать это лицедейство? — вдруг надменно выпалил
я. Стоматологичка в голос расхохоталась, но паясничать перестала
и встала из-за стола.
— Ах, как угодно...— с жеманной усталостью ответила она, запрокинув
голову и вскинув руку ко лбу в бессильном жесте.— Мне все равно.
Я пойду, пожалуй. Вы тут не шалите без меня, никого не гипнотизируйте!
— она игриво погрозила мне пальчиком и действительно вышла.
Я уселся на кушетку, растерянный и разбитый. Какое-то сонливое
оцепенение завладело мной, словно вдруг я очутился в солнечный
полдень на даче, в жужжащем и жарко дышащем ароматным теплом саду.
Такое чудное, тягучее чувство, толком ни сна, ни яви нет, все
словно расплывается и уходит на дальний план, и любое человеческое
действие кажется подвигом воли против аморфной мощи жары и покоя.
Из этого можно выйти лишь чудом, неожиданным чаепитием, сном,
необходимостью делать что-то тупое и изматывающее, как, например,
распутывать лески, ковыряться с велосипедным колесом или варить
обед.
Меня спас телефонный звонок, неожиданно раздавшийся в моем кабинете.
Он исходил откуда-то из-под стола, приглушенный и почти нереальный.
Словно повинуясь какому-то чутью, я открыл один из ящиков стола.
Старый, дисковый аппарат уютно гнездился в пустом, пахнущем древесной
пылью ящике, и трезвонил, негромко и мелодично. Не понимаю, кто
спрятал это ласковое существо в этом темном, тупом месте?
— Привет.
Голос был мужской, неуловимо знакомый. За мгновение в памяти промелькнуло
несколько лиц.
— Привет,— я решил не выказывать собственного смятения.
— Как дела?
— Очень хорошо.
— Да? Геморрой прошел?
— Что? Какой геморрой?
— Никакой.
Голос приобрел механические нотки, какое-то отстраненное равнодушное
звучание, точно говоривший отвлекся или задумался.
— Какой, на фиг геморрой? Кто это вообще? — раздраженно вскричал я.
— Никто. Вася Пупкин из третьего «Б».
— Господи, ты что ль, Павел?
— Наконец-то...
— Ну, ты даешь... Мистификатор хренов. Нашел время, я тут сижу
замороченный весь...
— А что ты такой замороченный?
— Да тут вообще творится. Всякое.
— Ты в горниле, что ли, бед разнообразнейших? Табак дедушкин кончился,
что ли?
— Какой ты примитивный...
Я улыбался так сильно, что начали дергаться губы. Волна сентиментальной
радости охватила меня, даже глаза предательски заслезились. Не
знаю, чего меня так развезло, но я почувствовал, будто Павел —
персонаж совершенно иного мира, такого знакомого и близкого мне,
но сейчас именно почему-то недоступного, ушедшего навсегда, невозобновимого.
— Ну, как твои инфантилы латентные поживают?
— Хорошо поживают... Слушай, может, встретимся сегодня?
— Встретимся? Ну, давай...
Минут через пять мы окончательно договорились у меня дома, так
как ни один из обычных наших кабаков не показался нам по карману.
Пашка работал доставщиком пиццы. Работа не пыльная, оставляет
место для тяжелых раздумий. Так он обычно характеризовал ее, немного
смущаясь.
Повесив трубку, я в замешательстве прошелся по кабинету, не находя
себе места. Что-то гнало меня прочь отсюда, какая-то выталкивающая
сила. Недолго думая, я вышел из кабинета и, постояв в нерешительности
возле дверей стоматологички, пошел в столовую купить булок. Я
заметил, что пристрастился к ним, и, пожалуй, слишком быстро.
По пути в столовую меня догнала стоматологичка.
— Послушайте, вы не обиделись?
— Да нет, с чего бы это?
— Ну, мне просто показалось так...
— Вовсе нет,— соврал я еще менее убедительно.
— Может, сходим в парк, погуляем? Знаете, тут есть один замечательный
парк... Недалеко.
— Прямо сейчас?
— Ну, зачем прямо сейчас? После школы.
Я представил, как мы будем бродить по голым, бесцветным аллеям,
беззвучно и безмолвно, силясь нарушить давящую тишину деревьев,
ища слова, достаточно нейтральные и безобидные, чтобы не начинать
разговор, способный завести нас слишком далеко.
— Ко мне друг сегодня собирался приехать,— пробормотал я уже возле
дверей столовой.
— А, ну ладно,— произнесла она с готовностью, чуть ли не облегченно.—
Тогда до встречи на пикнике. Десять ноль-ноль, «Белорусская».
Не обижайтесь на меня, ладно?
— Да все в порядке...
Внутрь столовой я вошел уже один, жалея, что никак не смягчил
обстоятельства отказа, и вообще, был обиженно черств, как забытый
на полке сухарь, в своем стремительном и тупом движении в столовую.
Ладно, на пикнике все образуется. Я ощутил это даже с некоторым
сожалением, как будто имела какое-то значение моя уверенность
в том, что прорвется наконец эта томительная пелена неопределенности
и эксцентричной, недосказанной натянутости между нами. Или будто
тот факт, что она прорвется, действительно расстраивает меня,
будто мне мила эта наша чудная, молчаливая прелюдия, неохотно,
что ли, или как-то безысходно, словно у нас нет выбора, разыгрываемая
нами.
***
Пятницу я встретил с легким похмельем, даже, скорее, с недосыпом,
вызывающим схожее с похмельем чувство. В квартире царил отталкивающий
запах долгой ночной посиделки, стол в комнате обиженно застыл,
умертвив на себе остатки пива, свернувшийся и затвердевший сыр,
несколько иссохших оливок. Лужицы, разводы и хлебные крошки, раздавленное
печенье на ковре. Неподъемная, давящая статичность бардака, оставленная
тремя нетрезвыми, невеселыми людьми. И какой черт дернул Павла
прийти с этой странной девицей?
Умывшись с усилием, я прошел на прокуренную кухню, автоматически
вытряхнув переполненную табаком и окурками пепельницу в переполненное
ведро. Половина содержимого пепельницы весело, вызывающе раскинулась
по полу, заставив меня устало, обреченно чертыхнуться. Пока шумел
нагнетаемый электричеством чайник, я прибирался на кухне, притащив
из комнаты и утилизовав объедки.
События вчерашнего вечера тихо отмирали в памяти, уступая место
требовательному желанию вспомнить сегодняшний сон. Что-то такое
снилось интересное...
Павел пришел часам к семи, сразу сказал, что ненадолго, чем не
расстроил, так как почему-то привел какую-то девицу. Сперва я
испуганно принял ее за проститутку. Она развязно смеялась, оба
были чуть навеселе, в общем, настроение мне испортили. Я успел
сделать несколько торопливых, беспокойных затяжек на лестничной
клетке, пока они раздевались и осваивались.
Оказалось, что девушка — менеджер, старший сотрудник и почти начальник
Павла, то есть их ситуация была еще хуже. Павел поправился, как-то
заматерел скоропостижно; мне он сказал, что я выгляжу замороченным
придурком и все по-прежнему слушаю дурацкую музыку. Музыку мы
выключили, сели пить чай, который обернулся вином и пивом. Вино
было у меня, а пиво Павел принес с собой.
Целый вечер они испытывали меня, рассказывая о своей работе и
порываясь расспросить меня о моей, однако, лишь только я начинал
отвечать на их нелепые вопросы, девица начинала скучать и хватать
разные книги. Особенно меня смущало ее частое повторение слов
типа «порнография» и «копец». Достоевский — «порно», Миллер —
«копец, порно». А это что за музыка? «Копец, вообще».
Наконец мы с Павлом зарядили ей какой-то идиотский фильм, забытый
у меня одной из старинных приятельниц, и ушли на кухню, курить
и разговаривать. Но она и туда пришла, сказав, что смотрела этот
мрачный фильм. Покурила с нами и начала нести бред про своего
первого парня, который был морским десантником и в день десантника
выпил четырнадцать бутылок пива, после чего отнял у мента лошадь
и ускакал в неизвестном направлении. В общем, вместо того, чтобы
излить душу, я вчера излил только желчь, проблевавшись хорошенько
после их ухода. Это было часа в два ночи, после настойчивого стука
в пол соседей снизу, нервной пары стариков, извращенно любящих
тишину.
Окончание следует
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

