Моцарт-убийца, или Мой любимый цвет – красный
Алексей Герасимов (01/11/2014)
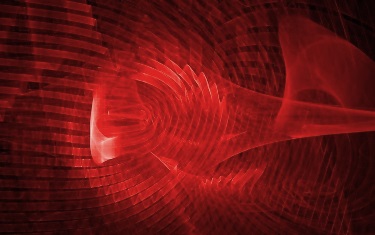
О смерти Эдуарда я узнал из новостей на портале «Шум и вибрация». Я не интересуюсь новостями, но на страничке, где моя электронная почта, с правой стороны всегда бежит лента заголовков. «Единственный сын бывшего депутата государственной думы, предпринимателя N-ского погиб в автокатастрофе». И я, конечно, навел курсор и кликнул… Люди, с которыми вы провели долгие годы вместе, люди, которые считаются вашими закадычными друзьями, не каждый день разбиваются насмерть!
С Эдуардом последний раз я виделся вечером - за пару часов до аварии.
Подробностей СМИ не сообщало. Мне позвонила Лека, но она могла лишь скулить и всхлипывать, а через пару минут прервала связь. Подробности я узнал только после похорон.
Я не хотел его смерти. Но так уж получилось.
Мы познакомились в студии рисунка и живописи при юношеском Доме творчества. Мы были ровесниками, единственными мальчиками среди художественно одаренных дев, и, естественно, стали общаться, а потом вроде как и подружились. В студию Эдуарда привела мама, он упирался. Я пришел сам, и частенько убегал из дома на вечерние занятия тайком. Мне приходилось спускаться по пожарной лестнице с третьего этажа, потому что у дверей стоял, закрывая выход, покачиваясь, пуская слюну и рыгая, пьяный отец. Он держал в руке скакалку моей младшей сестренки и, обращаясь то к шифоньеру, то к настенному бра, произносил монолог о том, что мужик должен заниматься делом, а не малякать глупые картинки. Сам-то он становился, когда трезвый, дюже работящим, только нашей семье от этого не жилось сытнее: скакалка, которой он меня лупил, была чуть ли не единственной игрушкой моей сестры, а бумагу, карандаши и краски я таскал из школьного кабинета рисования. Матери моей было не до меня, - куда я там бегаю вечерами: рисовать, играть в футбол, бить стекла или нюхать клей? - она искала для семьи пропитания и возилась с малой дочерью.
Родители Эдуарда, - как я понял много лет спустя, - мнили себя художественными натурами, чей творческий потенциал так и остался, по ряду причин, нереализованным. И они мечтали о том, чтобы их отпрыск нашел себя в области искусства. Они внимательно наблюдали за младенцем Эдуардом, ища в нем крупицы таланта ну хоть к чему-нибудь, но Эдуард рос совершенно обыкновенным мальчуганом, склонным разве что к дворовым проказам. И когда однажды, в возрасте лет десяти, он неожиданно для всех накалякал к 8 марта корявенький, но трогательный портрет своей мамы, все умилились, всплеснули руками и, ведомый за руку, с рисовальными принадлежностями в ранце, Эдуард появился на пороге студии. Примерно в одно время со мной.
Рисовать я начал раньше, чем возненавидел манную кашу. Рисовал все, что попадалось на глаза, и все, что мог вообразить. Руководительница студии – божий одуванчик, первым делом начала учить нас рисовать простые фигуры. Она говорила, что рисовать простые фигуры, это очень сложно. А сложнее всего – нарисовать круг, идеальный правильный круг. Добавила, что в Японии все художники, даже самые прославленные, учатся рисовать круги всю жизнь… Тогда я взял мягкий карандаш и, не отрывая грифеля от бумаги, мгновенно, одним плавным движением начертил круг. Хоть циркулем проверяй! Божий одуванчик сказала: «Невероятно!» Тогда я внутри первого круга начертил второй, поменьше… а потом снаружи первого – третий, побольше. Все три фигуры имели форму идеальной окружности и располагались друг от друга на расстоянии ровно в два сантиметра. И линии окружностей были ровными-ровными, совсем без холмиков и впадинок. Я мог бы от руки рисовать мишени для тира и их с трудом отличили бы от печатных!
Твердые руки. Хорошая связь между мозгом, глазами и телом. Я мог бы стать, например, хирургом. Или фехтовальщиком. Или снайпером. Снайперы тоже ведь маленького росточка. Но помимо цепкого взгляда и верных рук природа наградила меня буйным воображением. Разнообразные видения, - порою навязчивые и болезненные как галлюцинации, - представлял я в своем воображении, изображал их в красках на белой плоскости листа.
А Эдуард?.. А что Эдуард!.. Эдуард даже прямой горизонтальной линии провести не мог! Вместо линии у него получались то холмы, то лошадиный круп.
И все-таки… когда он появлялся в студии – всегда аккуратно причесанный, хорошо одетый, румяный, круглощекий и улыбчивый, часто с шоколадными конфетами или другим угощением «от мамы для всех» – и руководительница, и девочки-студистки, расцветали и улыбались ему в ответ: «Ах, Эдик!.. Ах, Эдичка!!! Ах, Эдуардик…»
А мне никто никогда не улыбался. И я не улыбался никому. И угощения для всех я в студию никогда не приносил. Я вообще шоколад-то впервые попробовал именно в студии – тот шоколад, которым угощал нас Эдуард Распрекрасный. Меня он при этом похлопывал по плечу – сверху вниз; он вряд ли хотел меня этим унизить, за снисходительным жестом скрывалась искренняя доброжелательность, но Эдуард был намного выше меня, и жест воспринимался мной, как покровительственный, этот жест раздражал меня, мне казалось, что таким образом сытый барчук демонстрирует свое превосходство надо мной.
Угрюмый, худющий, низкого роста, с вечно заложенным длинным носом, с обветренным лицом и руками в цыпках, я садился поближе к окну, где больше света, и рисовал: рыб, птиц, собак, небо, море, лес, самолеты, людей; рыб в океане, и самолеты в небе, и разноцветнопарусные яхты в море, и фруктовые деревья в саду, и людей на велосипедах, и акробатов в золотых трико под черным куполом цирка, и собак, бегущих по полю рядом с детьми, и кошек на руках у овалоликих девушек, и девушек, летящих на дирижаблях в открытом космосе среди пушистых или колючих звезд…
Божий одуванчик рассматривала мои рисунки, удивлялась, говорила: «Хорошо! Даже очень!.. Природное чувство формы и цвета…» - затем обращалась к Эдуарду: «Ну, как у тебя дела?..» А Эдуард, как всегда, вымучивал на ватмане, - то и дело отвлекаясь на болтовню с девчонками или откровенно скучая, - кривоватую вазу с цветами, которые, казалось, уже выросли мертвыми, или аквариум с рыбками, похожими на хвостатых тараканов, а затем заляпывал эти неуклюжие рисунки бурыми, серыми или грязно-желтыми пятнами. «Ну-ну…» - говорила божий одуванчик и осторожно касалась ладонью Эдуардовой макушки.
После восьмого класса я пошел учиться в строительное ПТУ. Зачем? Не зачем, а почему! Потому что в это ПТУ никто не хотел поступать, и учащихся заманивали стипендией плюс заработками во время практики. В училище кормили два раза в день за бесплатно и даже выдавали синюю форму и тяжелые уродливые ботинки. И я подал в училище документы, потому что материальное положение в моей семье было, мягко говоря, тяжелым, а честно говоря – ужасным. У меня имелись только одни дешевые брюки, да и те залатанные. Единственные ботинки, купленные в разделе уцененных товаров, носимы были мною и в мороз и в жару. Плюс пара выцветших маек да синтетическая зеленая кофта с молнией, да полосатая вязаная шапочка-презервативчик, да болоньевая куртка отвратительного поносного цвета. Один из школьных остроумцев так и сказал про меня: «Как елка: и зимой и летом – одним цветом!» - намекнув на то, что я одет всегда в одни и те же шмотки. Более благополучные одноклассники тут же подхватили эту фразу, меня прозвали Одноцветным. А то, что в моем воображении сменяли одна другую причудливые фигуры, имевшие пять сотен оттенков, никого из них не интересовало.
Вот, где меня не дразнили, так это в художественной студии. Нельзя сказать, чтобы я очень там кому-то нравился, но от моих работ все приходили в восторг. Они ведь разбирались… и я, как рисовальщик и колорист, пользовался определенным авторитетом. «Учись дальше… - говорила руководительница. - Не зарывай талант!» Ха! Лишние слова… Да, если бы я и захотел зарыть свой талант, то он, талант, не подчинился бы мне!
О трех годах учебы в ПТУ писать особо нечего, да и не хочется. Несмотря на двухразовое питание и бесплатные ботинки, училище не пользовалось популярностью у школьников, зато имело дурную славу: там собралась, кажется, вся городская шпана, которую больше никуда не брали. Учиться было легче легкого, требования были минимальные. На переменах я дрался с лихими пацанами, точнее - меня били, какие там драки, это не мое призвание. Но от побоев я не сник, а как-то, наоборот, закалился шкурой и нравом, и к концу второго курса развеселая шпана оставила меня в покое. Практика на производстве приносила хорошие, для подростка, деньги, хотя работа казалась мне отвратительной: смрад, грязь, грохот, на стройке из-за цементной пыли я чихал приступами - по сто раз подряд, буквально, до крови из носу, а после смены в деревообрабатывающих мастерских стружками и опилками были забиты даже трусы.
Но вечерами я бежал в художественную студию – в единственное для меня райское место на земле!
За год до окончания ПТУ я записался на подготовительные курсы при Академии художеств. И встретил там Эдуарда. Родители сказали ему: «Твое дело – учиться, остальное мы обеспечим». Он всегда был равнодушен к искусству, но на подготовительных курсах начал входить в роль художника, и эта роль ему пришлась по душе. Может, ему следовало бы податься в актеры? Высмотрев в каких-то альбомах парижские фотографии начала 20-го века, он скопировал у богемы Монмартра манеру одеваться: черную бархатную шляпу своей бабушки он переделал в мужскую, отодрав от нее ленту с бантом; прикупил на барахолке древнюю, но еще крепкую шинель австро-венгерской пехоты, а в антикварном магазине – серебряный перстень с черноватым самоцветом; некая частная мастерица связала ему шарф шириной в полметра, а длиной метра в три. Эдуард отрастил волосы до плеч и короткую узкую бородку. В широкополой шляпе, сдвинутой на затылок так, чтоб были видны соболиные брови, с бутылкой красного импортного вина в глубоком кармане шинели, - и часто уже под хмельком, - обернутый шарфом, концы которого при ходьбе разлетались в стороны, с потертым этюдником на ремне, с летящими над плечами каштановыми кудрями, он, долговязый и стройный, гордо являлся в Академию, и был, надо признать, неотразим. За год обучения на подготовительных курсах лучше рисовать он не стал. Измерял линейкой, угольником и циркулем детали и соотношения между ними на картинах признанных живописцев, и пытался копировать композиции, но дело-то не в сантиметрах!
Жизнь художественной богемы имеет множество привлекательных сторон, и Эдуард в эту жизнь окунулся по макушку. Его родители, не различавшие границы между тяжелым трудом живописцев и романтическими приключениями бесплодных околохудожественных бездельников, приветствовали наконец-то проявившийся интерес сына к миру искусства. В это время они стали приглашать меня, как Эдуардова однокашника, в дом – к обеду или на ужин. Но, как сейчас понимаю, вел я себя совершенно некомильфо: делал вид, что мне не по вкусу блюда, которыми меня угощали, - хотя ничего более вкусного я раньше не едал! – а когда отец Эдуарда, шишка на большом предприятии, начинал хвалить какой-нибудь фильм или спектакль, я брезгливо кривил губы и заявлял, что подобная претенциозная халтура - для обывателей; когда же мать Эдуарда, преподаватель университета, предлагала мне полистать художественные альбомы – прекрасно, малыми тиражами изданные, ценные и редкие, с репродукциями картин первоклассных мастеров! – я бурчал, что все эти художники – дутые фигуры, что они и при жизни-то были творческими мертвецами, а теперь и подавно… Меня раздражало и злило благополучие этого семейства, их барственность, уверенность в себе, почти неограниченные возможности, созданная ими комфортная атмосфера светской доброжелательности. Чувствовал ли я фальшь в их манере общаться, или просто завидовал тому, чего был лишен? Не знаю… Эдуард, всегда относившийся к родителям с иронией, лишь посмеивался. Но в дом меня приглашать все-таки перестали.
Смену власти в стране я бы мог и не заметить. Советская власть мне никогда не мешала. Немножко даже помогала: платила стипендию в учаге, например. Академия бурлила, многие преподаватели и студенты ходили на манифестации, а до меня лишь долетело, что общественный строй у нас сменился – будем теперь жить при капитализме! – но я только махал кистью, накладывая на холст маслянисто блестящие мазки. Всегда любил яркие, глубокие, насыщенные цвета. Особенно – все оттенки красного!
Жить стало трудней, общество трясло, многие скатывались до нищеты, но я ведь никогда и не валялся в жиру. Узнал, что учебные места в вузах теперь будут делиться на платные и бюджетные, но был уверен, что получу на экзаменах отличные результаты. Преподаватели на курсах были уверены в том же. Но бюджетное место мне все-таки не досталось. Я не дотянул по общеобразовательным предметам. Так мне сказали. Но это же полная чушь! Основные в творческих вузах – экзамены по творчеству. А экзамены по общеобразовательным предметам играют вспомогательную роль: вытянуть нужного абитуриента… или, наоборот, срезать неугодного… Интриги, манипуляции, социальные игры… Преподаватели при встрече со мной отводили глаза, абитуриенты, не знаю, насколько искренне, сочувствовали – все ведь понимали, что если не я достойный, то кто же!
Эдуард поступил, и ему досталось бюджетное место.
Я тогда впервые надрался в зюзьгу и заблевал весь коридор. Мать воскликнула: «Ну, вот, еще один алкаш в доме!..» - но она была не права. Многие дети алкоголиков получаю в наследство ген пьянства, но я был из того меньшинства, у которого выпивка всю жизнь вызывает отвращение. Даже на богемных вечеринках, в которых я изредка участвовал, в моем стакане плескался апельсиновый сок, – а я делал вид, что там «отвертка».
Никогда ранее судьба не проявляла своей несправедливости ко мне так явно и жестоко. Отец Эдуарда остался таким же важным шишкой, но уже на частном предприятии, и был, наверно, в состоянии оплачивать учебу сына где угодно.
Позже я узнал о некой системе ротации… Эдуард стал студентом Академии художеств, а отпрыск кого-то из преподавателей Академии – студентом университета, где преподавала мать Эдуарда. Иногда такие схемы бывали сложней и ветвистей…
Мне едва хватало денег на кисти, бумагу и краски. Спросите любого художника, во сколько ему обходятся все эти принадлежности!
Меня пытались утешить тем, что я смогу посещать все занятия и лекции – вольнослушателем, а там… как-нибудь все устроится… может, кого-нибудь отчислят… может, деньги найдутся…
Ну, вольно, так вольно, выбора у меня все равно не было.
Тогда же в нашем студенческом кругу появилась Лека – бледный лепесток, подражавшая то ли прозрачным кокаинеткам Серебряного века, то ли распутно-хищным созданиям эпохи джаза. Она устроилась в Академию натурщицей. Но вряд ли ради заработка, весьма скромного. Ее, как и многих, привлекала романтически-беспутная атмосфера художественной среды, она, как и многие, не жила искусством, а играла некую роль.
Лека увлеклась Эдуардом, что было предсказуемо. Он написал ее портрет – скучный, как и все, что выходило из-под его кисти. Эльфоподобную, загадочную Леку он изобразил эдакой селедкой в крепдешине. Селедкой с пернатой шляпкой на сизой голове, селедкой с выпученными мутными глазками, прикрытыми вуалькой. Лека пришла от картины в восторг – как современно, как небанально, как провокативно, сказала она!
Я тоже, пользуясь эскизами, сделанными на занятиях, написал несколько портретов Леки. Она скользнула по этим картинам равнодушным взглядом. Бросила только, слегка недовольно: «Почему это я у тебя вся в красном! Я никогда не носила красное!.. И мысли у меня не возникнет – красное надеть! И даже мои светлые волосы на этих твоих портретах почему-то отливают краснотой…» Тогда я понял, что Лека ни шиша не рубит в живописи! И любит она вовсе не работы Эдуарда, а любит она Эдуардов успех. Неважно, что статус Эдуарда был пока довольно скромен – неизвестный, начинающий художник. Успешность часто бывает врожденным качеством, тогда она трепещет за спиной у человека, как крылья у бабочки. И эти невидимые крылья окружающие люди, особенно – женщины, чувствуют.
А я сумел не только передать изящество линий тела и лица Леки, не только тонкость, прозрачность ее кожи и сияние глаз – это всего лишь дело техники. На моих работах не только чувствовалась аура обаяния, которую Лека распространяла вокруг себя. Я сумел сделать то, что и отличает произведение искусства от ремесленного изделия: отобразил женственную тайну своей модели, а точнее - я сначала выдумал эту тайну, а уже потом – отобразил. Лека, несмотря на декадентский флер, в котором она себя, настоящую, прятала, была обычной земной девушкой. Стиль проведения и манера одеваться, это ведь все внешнее - лицедейство. Расколоть эту скорлупу – и принцесса эльфов тут же превратиться в одну из миллионов женщин, которые ходят на работу в конторы и на фабрики, жарят своим мужчинам котлеты и подтирают задницы детям. Я выдумал, вообразил, нафантазировал тайну Леки, а потом каким-то чудом перенес ее на холсты. Мне и самому не ясно, как мне это удалось – таким вещам не учат ни в художественных студиях, ни в художественных академиях. Потому что это не зависит от умения, а является чистым капризом Внеземного, которому вдруг, ни с того ни с сего, захотелось, чтобы один из лучей его света проник в наш мир через мои потрепанные, дешевые кисти.
Лека, как красивая, томная, изысканная девушка, понравилась мне с первого взгляда. Но после того, как она с таким убийственным пренебрежением отнеслась к моим работам, коих она была главной вдохновительницей, я запылал к ней нешуточной страстью. Которую не имел ни малейшего шанса когда-либо утолить!
А Эдуард в процессе учебы открывал для себя дадаистов, сюрреалистов, кубистов, супрематистов, абстракционистов эт цетера: русский авангард, западный модерн, американский поп-арт, венский акционизм… Меряя широкими шагами пол своей мастерской, - родители арендовали для него просторную светлую мансарду в центральной части города, где он больше кутил с друзьями и пялил приблудных девок, чем художествовал, - Эдуард, уже с утра слегка поддатый, откровенничал, отхлебывая красное сухое вино из горлышка бутылки: «… меня всегда раздражали вот все эти правила… перспектива эта лядская… пропорции… золотое сечение… сочетаемость цветов… светотень-муетень вот вся эта!.. ну, ты меня понимаешь?!»
А меня никогда никакие «правила» не раздражали, рамки, выработанные традицией, только помогали мне работать свободно, но я молчал, слушал и кивал. А Эдуард продолжал: «Но когда я познакомился со всеми этими ребятами… Которые перевернули представления об искусстве на перекрестке веков… Я увидел, что можно делать и так!!! И это тоже – искусство?!» Эдуард протянул мне бутыль, я отказался, и он, задрав голову, выхлебал остатки. Замечу, что выпивать он начал не от тоски, а, напротив – от избытка радости, чтобы еще более усугубить свое удовольствие от процесса жизни. Затем Эдуард сдернул с мольберта испачканную пятнами масляной краски тряпицу, и я увидел его новую вещь - жалкую, нелепую мазню: фиолетовый квадрат, имевший по углам четыре женских глаза с длиннющими ресницами, был забрызган более светлыми кляксами… Я внутренне рассмеялся: «Квадрат – это понятно от кого… Квадрат с глазами, это, очевидно, нечто сюрреалистическое… Ну, а беспорядочные кляксы, это, скорей всего, влияние Поллока… Хоть бы краски, что ли, поярче выбрал?.. Но и цвет ты, впрочем, никогда не чувствовал!..»
В этот момент мне даже стало жаль Эдуарда немножко. Я подумал, что «все эти ребята», действительно, были новаторами - в свое время, искренние в своем желании революционизировать. Лучшие из них не оглядывались ни назад, ни по сторонам – к какому бы новому направлению примкнуть, они сами создавали эти направления. И при этом рисковали: подвергались насмешкам, терпели непонимание, презрение со стороны общества и большинства коллег, преодолевали хроническую нужду. Среди «ребят» имелись и очень талантливые и не очень талантливые, кто-то из них хорошо владел традиционной техникой, кто-то не очень хорошо, но все они больно тыкались носами в неизвестное, нащупывая новые пути. Набивали при этом шишки, обдирали кожу. И без особой, кстати, надежды на признание. На фотографиях той эпохи видно – молодые художники-новаторы, ставшие позже классиками, одеты в такие штаны и рубахи, которые сейчас и бомжи постыдились бы носить; Пикассо первые хорошие деньги начал зарабатывать только после пятидесяти лет; Хуану Миро идеи его картин являлись во время голодных галлюцинаций…
Эдуард сам признался в творческой трусости: «…я посмотрел и увидел – можно и так!..» То есть заявил, что идет по уже протоптанной кем-то тропе, а не храбро прокладывает свою - уникальную.
Моя жалость к нему усилилась: тебя же высмеют, дурачок, стоит тебе только предъявить знатокам серию таких глазастых квадратов… или чего ты там еще сумеешь намазать!
Но Эдуарда, к моему удивлению - и, признаюсь, расстройству! - не высмеяли. Чудесные невидимые крылья успеха, доставшиеся ему от рождения, спасли его… Преподаватели с серьезным видом изучали его холсты и делали снисходительные, но вполне доброжелательные замечания. А сверстники-студенты объявили творчество Эдуарда «актуальным и прогрессивным» и негласно признали его лидером какого-то новейшего течения, которому пока еще не придумано названия.
Я недоумевал, - и, признаюсь… злился: что они нашли там прогрессивного, если всем этим приемам уже больше сотни лет??!! – думал я. Попытался высказаться, но по взглядам собеседников понял, что моя честная критика будет понята, как симптом тяжелой зависти. И решил молчать: я ведь и так не пользовался особой популярностью, и меня терпели в компаниях только… как старого товарища Эдуарда.
А барчук наш на третьем курсе увлекся перформансами, арт-акциями, хэппенингами. И показал себя хорошим если не режиссером, то организатором масс. Массы, как намагниченные, тянулись за мерцанием крыльев его успеха!
Как раз закончилось строительство нелепого, - но дорогого и амбициозного, - проекта городских властей – новой пинакотеки. Многие недоумевали: а чем же плоха старая?! Стреляные воробьи им объясняли: любая ремонтная или строительная работа – это лучшая стиральная машина для отмыва черного бабла, каталка для левых откатов. Новая пинакотека – на редкость аляповатое сооружение, похожее на покореженный кубик Рубика, по которому треснули молотком, но до конца так и не разбили…
Старая пинакотека располагалась в здании нашей Академии. Инициаторы строительства новой утверждали, что, мол, старая слишком мала, не отвечает современным стандартам и уже не годится для хранения полотен. Специалисты с этим не соглашались, но их мнение, как водится, не учли. Новую выстроили далеко от Академии – за рекой. Но, спрашивается, кому там нужна новая пинакотека, если кроме студентов и преподавателей Академии, а также искусствоведов, старую никто никогда не посещал?
Требовалось перевезти сотни полотен с правого берега на левый. Эдуард загодя подал проектную заявку в департамент мэрии, занимающийся вопросами культуры. Идея такова: участники акции, первую очередь - студенты, преподаватели, а так же добровольцы из горожан, выстраиваются в плотную цепочку от старой пинакотеки до новой, и передают картины из рук в руки… В мэрии от такой идеи пришли в восторг: как креативно! как необычно! как ярко! прекрасные полотна будут перемещаться через весь город, радуя глаза прохожих! это привлечет внимание туристов и прессы! – и поддержали проект материально. А сотрудники пинакотеки пришли в ужас: как?! с ума, что ли, сошли?! картины, это ведь не дрова!.. их следует запаковывать особым образом и перевозить с осторожностью!.. а если по пути их начнут ронять?! а если вдруг пойдет дождь?! а если полотна захватают руками, порвут холсты, сломают рамы?! в конце концов, кое-что могут попросту украсть по дороге!
В письменном виде был выражен протест. Чиновники почесали макушки, согласились, что слишком поспешно одобрили акцию, но уж больно сюжет хорош!.. Тогда Эдуард внес в сценарий коррективы: старые и имеющие большую ценность полотна переместят по всем правилам, а по цепочке будут передавать только работы студентов - это будет символично, это будет эффектно и со смыслом - искусство молодых в массы, так сказать!
Я, конечно, отказался участвовать в эдакой глупости, чем только усугубил свою отчужденность от однокашников, большинство из которых Эдаурдову идею поддержали. Именно потому, наверное, что она Эдуардова!.. Попробовал бы я предложить что-нибудь подобное… Ха! Да меня б на смех подняли!
А Эдуард после удачного проведения акции сей отправился на летний семинар художников-акционистов, где, по его рассказам, неплохо провел каникулы.
Меня это не трогало, я увлеченно и с напряжением всех сил, занимался любимым делом, но, когда Эдуарда по студенческому обмену отправили в Италию, а на мою заявку ответили отказом, я переживал очень тяжело. Попасть в Италию – это мечта для студента-художника! Увидеть ее небо, ее море, сады и поля! Вблизи рассматривать ее архитектуру! Посещать музеи и картинные галереи! Изучать великие шедевры живописи не по репродукциям…
У меня отняли то, что нужно было мне почти как воздух.
А Эдуард в Италии изучал только загорелых сеньорит да алкогольную продукцию, о чем и поведал со смехом по возвращении.
На третьем курсе Эдуард, как перспективный студент, стал стипендиатом Министерства культуры, и почти сразу – получил разовый грант от частного культурного фонда. Зачем, елки-палки, ему стипендии и гранты, думал я с досадой и злостью, если у него есть такой папа?! В нашей Академии учились по-настоящему одаренные люди, которые испытывали материальную нужду. Вот уж точно, если кому отваливают, то по полной, а кому-то шиш да ни шиша!
Вскоре из-за пыльных кулис на сцену выполз Крысиная Мордашка – один из студентов искусствоведческого факультета. Обладая прям-таки бабьим чутьем на прирожденно удачливых мужчин, он прилип к Эдуарду – вцепился коготочками и повис, дабы проехаться на чужом сильном загривке к собственному успеху. Крысиная Мордашка все произведения искусства называл «продуктами», а все творческие инициативы «проектами». Повторял, что «главное для серьезного игрока на современном арт-рынке, это узнаваемость его продукта и тиражируемость, узнаваемость и тиражируемость!» Посмотрев однажды на меня критически, заметил, что «сейчас художник, выглядящий, как художник, - смешон и нелеп, все продвинутые художники мира одеваются, как бизнесмены, спортсмены, деятели шоу-бизнеса, как угодно, но только не как «художники»». Дурацкое замечание: я одевался в потертые джинсы, растянутые свитера и обувался в солдатские ботинки всего лишь из экономии, да и не думал я ни минуты о своем имидже, одет во что-то, мне сухо, тепло, удобно - и ладно!.. Но Эдуарду Крысиная Мордашка все-таки промыл мозги: Эдуард однажды сделал короткую асимметричную стрижку, выкрасил волосы в платиновый цвет, сбрил бороду, подарил широкополую шляпу и австро-венгерскую шинель труппе любительского театра, и стал носить одежду в стиле «U/С of Bt». Эдакий модный пластмассовый ди-джей!
Крысиная Мордашка, как и многие вокруг, полагал, что Эдуард и я – старые, близкие друзья. Это было неправдой: я ни с кем не дружил, не способен был на дружеское сближение по своей внутренней сути, а Эдуард… типичный сангвиник, он дружил со всеми, и со всеми одинаково, то есть - не очень глубоко. Мы просто были так давно знакомы, так хорошо знали друг друга, что наше общение в глазах окружающих вполне могло сойти за дружбу. Но Крысиная Мордашка, желая притереться к сверкающему удачнику Эдуарду, - стать его пажом, холуем или, может, визирем при падишахе, или тайным советником, или серым кардиналом при императоре, уж и не знаю, кем! - почему-то воспринял меня, как главного конкурента себе. И совершенно напрасно: я дорожил товарищескими отношениями с Эдиком не больше, чем отношениями с любым другим человеком. И уж точно не претендовал я ни на какую должность, ни на низкую, ни на высокую, при нашем славном барине!
Крысиная Мордашка каждый раз пытался публично унизить меня. Суживая глаза, он презрительно цедил через тонкие, бескровные губенки что-нибудь вроде того: «Твои полотна напоминают цыганские платки и юбки! В глазах рябит!» - Сама по себе фраза не очень и обидная, но интонация с какой она произносилась… С такой интонацией можно было бы сказать: «От тебя воняет дихлофосом!»
Уже на младших курсах у меня появился неплохой источник доходов. Однажды я написал акварелью канарейку своего соседа, картинку увидал родственник его жены, и заказал мне потрет своего попугая. И заказы пошли чередой: я писал акварелью или рисовал тушью домашних любимцев: птичек, рыбок, хомяков, морских свинок, собак, котиков, черепашек и даже тритонов, змей и гигантских улиток. Писал быстро, не за дорого, но часто, так что смог не только обеспечивать свои нужды, довольно скромные, но и откладывать на оплату учебы в Академии, – я перевелся на платное отделение, бюджетного места для меня, вопреки обещаниям администрации, так и не нашлось. И я смог, наконец, уйти их опостылевшего дома, – снял под мастерскую деревянную халупу на окраине города: печное отопление, удобства во дворе, сквозняки изо всех щелей, но зато застекленная веранда, залитая днем лучами света, и печально-живописные полусельские пейзажи окрест.
Крысиная Мордашка на одной из студенческих вечеринок в мансарде Эдуарда, когда вокруг было полно романтичных фей, - присутствовала в том числе и Лека, - не упустил случая съязвить в мой адрес: «Ничего… Путь в придворные живописцы может начинаться и с королевского зоопарка! Начал ты с домашних зверушек, когда-нибудь, может, получишь заказ и на портреты хозяев!..»
Я не подал виду, что задет – а я был задет! - допил свой сок, поставил стакан на пол у мольберта и, не с кем ни прощаясь, незаметно вышел… И перестал ходить на подобные вечеринки плоть до выпуска. Я все равно скучал на этих собраниях, мне было жалко впустую потраченного времени, я раньше-то являлся на них только из-за Леки.
Некая бизнес-корпорация, в рамках своей рекламной кампании, предложила Академии провести выставку работ наиболее перспективных студентов старших курсов, и, естественно, я попал в их число. По совету преподавателей предложил одну работу маслом - «Дочь владельца кофейных плантаций, в ожидании корабля из Марокко с письмом от карточного шулера, выигравшего ее сердце», и два рисунка цветной тушью: «Гвардейцы кардинала ловят синицу, залетевшую в фехтовальный зал» и «Евнух целится копьем в бродячую собаку, забежавшую в сад гарема». Отнес работы в большой выставочный зал Академии, сдал их под роспись волонтеру из числа студентов искусствоведческого факультета – и забыл, окунувшись в работу над дипломным полотном «Восьмиклассницы, тайком перекуривая в школьном дворе, обсуждают внешность нового учителя физкультуры».
Мероприятие должно было широко освещаться прессой, на покупку какой-то части работ для своей коллекции корпорация выделила немалые средства, то есть эта выставка могла послужить хорошим карьерным трамплином всем участникам. Но когда я взял полистать только что отпечатанный каталог, то ни своей фамилии, ни репродукций своих работ в нем не обнаружил. Задал вопрос в ректорате, там лишь развели руками: «Мы решили организацию студенческой выставки полностью передать студентам-теоретикам! И принципиально не вмешивались в процесс подготовки...» Я поинтересовался, кто же кураторы, и не особо удивился, узнав, что ведущий куратор мероприятия – Крысиная Мордашка. Давно было ясно, что его больше интересует не история и теория искусств, а практическая деятельность на арт-поле. «Почему?!» - спросил я его при первой же встрече, и он, ничуть не смутившись, ответил с уничижительной для меня интонацией, выдававшей в нем первостатейного психологического садиста: «Потому что в предложенных тобой работах… да и во всех твоих работах!.. нет ничего прогрессивного… Они совершенно не актуальны, да!»
У меня аж челюсть отвисла от такого наглого и, по сути, лживого утверждения. Я оцепенел, слова не мог вымолвить. Да, пожалуй, и не стоило в этой ситуации что-либо объяснять и доказывать. Я ведь тщательно просмотрел каталог с отобранными работами, я видел что кураторы сочли «актуальным» и «прогрессивным»: подражательные, вторичные вещи в абстрактном, гиперреалистическом стиле или в стиле поп-арт. И хорошо еще, если бы исполненные искусно, но многие и не очень-то искусно или совсем неискусно! И что в этом актуального и прогрессивного, если все это уже было??!!
Выставка, впрочем, имела резонанс. Работы, не приобретенные корпорацией-организатором, растащили по закромам частные коллекционеры, известные галеристы заключили с несколькими студентами контракты. Корреспонденты из СМИ, наверное, как всегда, ничего не поняли, и, выпивая на фуршете, как всегда, иронизировали по поводу «молодых художников», но, будучи щедро подогретыми отделом по связям с общественностью, отложили свои ядовитые жала в сторону, и дружно накатали слюняво хвалебные и при этом чудовищно глупые статьи. Несколько надменных арт-критиков, слывших интеллектуалами и эстетами, правда, разродились пространными, но, как всегда, невнятными, занудными, совершенно нечитабельными эссе, с формулировками на птичьем языке, высосанными из пальца, типа: «Если всевозможные предлагаемые выставкой бинарности, ведут к основополагающей бинарности предстоящего и послестоящего относительно реальности, то заданное расположением, масштабированием и текстовыми вкраплениями взаимодействие всех вычленимых объектов и их множеств придает центральной бинарности захватывающие качества». [Ph. D. Дмитрий Ридикюлькин, арт-журнал «Окружность»].
А я надолго погрузился в тяжелую продолжительную депрессию. Из которой, конечно, выбрался, но с идеей-фикс в голове. Если раньше моя старомодность была стихийной, - я никогда особо и не стремился скакать вприпрыжку впереди планеты всей! - то теперь она стала осознанной. Я решил принципиально оставаться ретроградом, консерватором, традиционалистом, архаиком; игнорировать любые свежие тенденции, буде оне конъюнктурные или нонконформистские, не поддаваться их влиянию, избегать любой ангажированности, даже если она внешне и выглядит как бунт. Что бы ни творилось вокруг, какие бы «новые волны» не колыхали арт-рынок - закупориться наглухо в своей раковине! И никогда не танцевать вприсядку вокруг влиятельных арт-критиков, меценатов и галеристов. «Даже если я всю жизнь проведу в бедности и в бесславии, я не сделаю ни шагу навстречу моде, современности, актуальности и прогрессу», - так думал я, и держал свой обет терпеливо и со смирением. Так же я решил избегать участия в любых творческих объединениях, будь они формальные или не формальные, хотя группа слабых художников, обычно, скорее привлекает внимание социума, нежели сильный, но одинокий автор.
И в результате моя самоубийственная, казалось бы, стратегия стала приносить со временем сочные и сытные плоды… но об этом позже.
В то же время, когда я, получив садистский укол от Крысиной Мордашки, страдал мукой непонятых и отверженных, Эдуард нашел собственную, как он говорил, «арт-фишку», которая позже и принесла ему определенную известность. Он вырывал из первого попавшегося глянцевого журнала какую-нибудь страницу с фотографиями неземной красоты дев, разрезал ее на одинаковые прямоугольники, перетасовывал их и наклеивал на лист А3 в произвольном порядке. Получившуюся «картинку» он, при помощи точной разметки по квадратам, один к одному, но в увеличенном масштабе, переносил на холст акриловыми красками. Получалась эдакое веселенькое и как бы шутливое изображение, но, поработав с тенями и бликами, Эдуард придавал картине атмосферу легкой тревожности. Ко дню выпуска из Академии таких работ набралось три десятка, - Эдуард еще ругал себя за леность, ведь, отработав технологию изготовления до автоматизма, он мог бы за то же время нашлепать запросто и три сотни! – и Крысиная Мордашка, выполняя роль арт-менеджера, организовал первую персональную выставку Эдуарда, которая имела немалый успех и у прессы, и у публики, и у коллекционеров современного искусства. А Ph. D. Дмитрий Ридикюлькин, этот напыщенный болван, приветствуя новое явление, высказался на страницах арт-журнала «Окружность» в своем обычном стиле, пафосном, туманном и без грамма иронии: «Псевдохаотично смонтированные визуальные снэпшоты в сугубо феноменологическом ключе освобождают видимость от заслонок структурирования. Иначе говоря, детерминирующий, формообразующий посыл художника на атомическом уровне выставочного пространства сведен к минимуму. В концептуальном, но, что важно, не в репрезентативном смысле с искомой реальности, существующей на этапе после инъекции симулякров в саму возможность творческого соприкосновения с миром, снимается пленка».
И вот со дня окончания Академии прошло – ох! – целых пятнадцать лет. Все эти годы я жил на окраине города, в покосившемся облупленном домике, который постоянно нуждался в хирургических вмешательствах. Я нанимался то кочегарить в зимних оранжереях, то дворничать в детском саду, то сторожить по ночам склады; а также вел кружки рисования при школах или частным образом готовил юношей и девушек к поступлению в художественные училища. Был я, стало быть, последним из могикан – дворников и сторожей с творчески-интеллектуальными интересами; предыдущее поколение ушло, а в моем я, кажется, был единственным таким балбесом: все мои сверстники-однокашники более менее успешно вписались в рынок: кто не мог жить продажей своего искусства или не стал грантоедом, тот или верстал модные журналы и рекламные буклеты, или дизайнерски оформлял офисы, клубы и бутики, или пристроился при каком-нибудь муниципальном департаменте культурной «единицей» или функционером-куратором.
Мои полотна редко, но все же продавались. Я сразу установил на них высокие цены, не из жадности, конечно, и не из-за гордыни. А потому что вкладывал в каждую так много сил, времени, творческого напряжения, что дешевить было нельзя категорически!
Я даже получил некоторое признание в среде знатоков живописи, но только как очень умелый ремесленник, который в своем деле может буквально всё! Как большого и оригинального художника меня, кажется, никто не воспринимал.
Я избегал светских собраний и богемных тусовок; принимал лишь приглашения от Эдуарда - ради того, чтобы иногда видеть Леку.
Она стала его женой.
Ей привалил еще тот подарочек: довольно известный художник, чья известность, при соблюдении ряда условий, обещала пойти в рост, но выпивоха и гулена в левом направлении. Она страдала, и я это видел.
Страдал, кстати, и менеджер Эдуарда – Крысиная Мордашка. Время показало, что он, оказывается, поставил не на ту коняшку. Арт-бизнес может извинить производителю арт-объектов почти все: аморалку, скандальное поведение, вредные привычки. Даже ужасный характер и социопатию (этого, впрочем, в числе Эдуардовых минусов не имелось никогда). Даже полную бездарность может простить… Но если artist не продуктивен, если он дрыхнет у конвейера, вместо того, чтобы дисциплинированно шлепать артефакты, годные под каким-либо соусом к презентации и к продаже, то это причина для увольнения с kunst-фабрики. Причем – вместе с тем, кто его представляет… А ведь Крысиная Мордашка все эти годы носом землю рыл! Налаживал связи с хорошими галереями, втирался в компании к важным людям на арт-фестивалях, выбивал гранты, подкармливал журналистов. Но его подопечный, привыкший с пеленок иметь крепкий тыл за спиной, не умел работать. Точнее, не умел работать систематично и целенаправленно. Копировать на холст разрезанные страницы глянцевых журналов ему надоело (хотя поляна-то будь здоров, топчи ее и в сто жизней не истопчешь!), а ничего нового он придумать не мог… Срежиссировал было перформанс: нанял двух юношей-боксеров, которые взяли в руки толстенные кисти, и сражались ими, прыгая на ринге, установленном посредине выставочного зала, нанося на тела друг друга яркие мазки черной, желтой, синей и зеленой краской. Зрелище имело успех, получило хорошую прессу, но прибыли не принесло. Эдуард попробовал заняться скульптурой: сваял из алюминия и пластика несколько невразумительных композиций, навеянных классиками конструктивизма, но Крысиная Мордашка буркнул раздраженно: «Такого гэ на арт-рынке, как блядей в Амстердаме!» - И галеристы, которым он все-же попытался втюхать объекты, сказали тоже самое, только в более вежливой форме и спокойным тоном.
А Эдуард уже перешел границу, отделяющую радостное питие от тяжелой болезненной зависимости. Отец находил ему дорогих врачей, Эдуарда лечили гипнозом, таблетками, иглоукалыванием, индийской гимнастикой, он держался пару месяцев, а потом срывался и уходил в еще более жуткий запой. Шел на дно. Терял дружеские связи и уважение. Лишился последних источников дохода, и жил с Лекой за счет своих родителей. Крылья успеха, данные ему в подарок с рожденья, поблекли, ослабли и уныло повисли. Щедрый, роскошный дар не ценили, и поэтому подарок был отнят…
У Крысиной Мордашки закончилось терпение, и он взялся за промоушн компании недавних выпускников Академии, которые уже громко заявили о себе: главным образом тем, что догадались вовремя объединиться в агрессивно-пробивную группу да придумали удачный – то есть трескучий и пафосный! - манифест «новому направлению в искусстве». Нового, оригинального у них, конечно, не было ничего, - все та же эксплуатация столетних идей авангардистов из кафе «Вольтер». Но энергичные, модные, позитивные ребята в качестве материалов стали использовать отходы, мусор, в основном – отжившие свое бытовые электроприборы, компьютеры, мобильные телефоны, мастеря из них нечто блестящее, ажурное и не лишенное даже некоторого дизайн-обаяния. Но главное, подвели актуальную теоретическую базу под свое штукарство: использование мусора – это борьба за экологию планеты. А экологичность, это ж нынче святой тренд! Хотя становится ли от этого тренда нашей планете легче дышать - большой вопрос…
А Лека?.. Леке, конечно, жизнь с пьющим (к случайным женщинам Эдуард интерес, впрочем, утратил), - вдруг ставшим неудачливым и зависимым от родителей, - мужем, была не в радость. Пить, это тяжелая работа, но жить с пьющим, это мучительная каторга… я на собственную мать насмотрелся!..
Но и Лека была зависима: нежная, прозрачная богемная девочка превратилась в женщину тридцати пяти лет с неопределенно-гуманитарным образованием, никогда всерьез не работавшую, ничего не умевшую, кроме как принимать гостей на вечерних коктейль-пати. Ей бы уйти от Эдуарда… Но куда и кем? Нянечкой в детсад? Не привыкла к дискомфорту! Ей бы прилепиться к кому, но к кому? Она все еще очень эффектна внешне, но вокруг полным-полно красавиц, которые гораздо моложе… А в доме родителей Эдуарда ей ни в чем не было отказа: состоятельные старики были счастливы, что хоть кто-то не отвернулся от их сына… Еще, правда, имелся я… Меня снова, спустя много лет, стали звать в барский дом. Считалось, что я своей трезвостью и серьезностью могу положительно влиять на Эдуарда. Как это наивно!
За большим овальным столом мы раз в неделю чаевничали впятером, – в этом доме больше не держали спиртного, - и я старался не смотреть на Леку дольше пары мгновений, чтобы не выдать свою нестареющую страсть. Лека теперь красила волосы в черный цвет, она отрастила их и заплетала в косу.
Эдуард в такие вечера откровенно скучал. Прихлебывая лапсанг сушонг со сливками, почти не участвовал в разговоре, уныло пялился на обои с бронзового цвета арабесками, подперев ладонью слегка одутловатое лицо – на переносице у бывшего романтического героя уже заметно краснели тонкие червячки-прожилки, но соболиные брови были по-прежнему хороши. Я знал, что при первой же возможности, он улизнет из квартиры, зайдет в магазин, а потом прилепится к подходящей компании или высосет бутылку в одиночестве. Несколько раз его уже находили чуть ли не в канаве на городской окраине или в подъезде соседнего с родительским домом в обнимку с отопительной батареей.
Совершенно неожиданно я стал получать многочисленные приглашения на участие в коллективных выставках. Мне не присылали подобных приглашений, кажется, лет сто! Крупный банк купил пару моих работ, стали проявлять интерес и частные коллекционеры, и я вдруг стал не богатым, но обеспеченным человеком в самое короткое время. Но даже образа и места жительства я не поменял, так я свыкся с положением бедного художника, и не понимал, на что мне тратить привалившие вдруг деньги, я ведь ни в чем особенном и не нуждался. Отправлюсь в Италию!.. - решил я. – Исполню давнюю мечту. И вообще поезжу по Европе – осмотрю все лучшие музеи.
Стали названивать журналисты, просить об интервью, я по неопытности сначала соглашался, но, ознакомившись с публикациями, впредь отказывался общаться с прессой категорически. И прочел однажды о себе в Интернете: «Он выбрал довольно удачную стратегию автопиара: избегать журналистов, не появляться в светском обществе, скрывать подробности личной жизни. Это, конечно, только усиливает интерес к нему и к его креативу…» - ну и тому подобную чушь.
Но самое странное: на меня обратили внимание и в снобских арт-кругах. Называли: «Новатором, который ищет путь вперед, через обращение к традиции…» - и так далее. Претенциозный шарлатан Ридикюлькин порадовал передовую общественность словесными соплями на целый журнальный разворот, пряча за обилием профессиональных терминов, путанными формулировками и акробатически сложным синтаксисом отсутствие острых и глубоких мыслей. И я с недоумением прочел о своих картинах: «Говоря о вибрациях и вообще об энергетическом импульсе, нельзя не упомянуть о разнице потенциалов, возникающей не только между полюсами отмеченной центральной оппозиции, заключающей в себе трудноуловимую реальность, но и внутри сопряженных с этой оппозицей множественных противопоставлений. Подобным образом можно долго отслеживать дихотомичности (что рано или поздно выведет к соответствующему пониманию отмеченной мной как фокусирующей связки «до» / «после») и находить в их выставочном бытовании функции смыслового уравнивания (переносящего напряжение на метауровень), дистанцированности (на метауровне неотличимой от вовлеченности), наращивания количества перцептивных измерений…»
Долго я сидел над этим текстом, - и во время чтения воображение рисовало мне засохшие кусты, облепленные старой паутиной, полной мертвых насекомых, - и пытался понять, что же все-таки хотел сказать автор, ругает он меня или отвешивает комплименты.
Даже Крысиная Мордашка, раздобыв мой э-адрес, прислал письмо, в котором деловая вежливость непостижимым образом сочеталась с фамильярностью. Как ни чем ни бывало, как будто никогда не было его презрительно-надменного отношения ко мне, этот мерзкий крысеныш напрашивался в представители моих интересов на арт-рынке. Я думал не отвечать, но все-таки не сдержался и ответил. В моем письме деловая вежливость пародировалась и была по сути издевательской. Я сообщил, что не нуждаюсь в представителе, так как мои интересы уже представляет некий галерейщик из Западной Европы. Что, кстати, было абсолютной правдой: я накануне заключил контракт с одной из лучших галерей Кёльна и на днях выезжал туда, чтобы готовить персональную выставку. Для моих работ понадобился целый фургон.
Поразмышляв над поведением Фортуны, я пришел к выводу: моя удача не случайна. Эдуарду невидимые крылья успеха достались от рождения, в подарок, он не ценил их, не берег и поэтому потерял. Я же, долгие годы терпеливо перенося нужду и бесславие, вырастил эти крылья: самоотречением, аскетическим подвигом ради искусства. Крылья успеха незаметно для меня самого выросли и окрепли. Мне оставалось только научиться с их помощью летать.
На очередном чаепитии у родителей Эдуарда я бросал на Леку уже более смелые и долгие взгляды. Я не стал сразу хвастаться своими успехами, но, несомненно, какая-то информация доходила до нее, и Лека теперь смотрела на меня иначе, чем всегда, более заинтересованно, что ли. Ну, еще бы – крылья успеха трепетали у меня за спиной, а женщины на их вибрацию особенно чутки!.. Перед уходом, я сказал как можно более небрежно: «Уезжаю… Сначала в Кёльн, там надо готовить персоналку… Потом, думаю, попутешествую… около года, наверное. Буду слать сообщения. А как вернусь – сразу к вам!» И добавил через долгую паузу: «Странно… странно, что первая персональная выставка у меня пройдет не в родных краях, а за рубежом! Правда, ведь это очень странно?..»
Престарелые карьеристы тут же смекнули, что значат мои слова: я, наконец-то, пошел в гору, сдвинулось мое дело с мертвой точки, - и одарили меня чарующими улыбками вкупе с острыми неприязненными взглядами. Ведь если их сына взялись преследовать невезухи, то его прежде неудачливый товарищ не имеет права именно сейчас купаться в какао со сливками!!! В своем воображении я показал им язык и на всякий случай сунул руку в карман и сделал из пальцев фигу, чтоб многоопытные хапуги мои блестящие ажурные крылышки не сглазили.
Проводив меня до дверей, Эдуард с чувством сказал: «Я так рад за тебя, старина, так рад! Ты давно заслужил…» И я не сомневался в его искренности: он был вобщем-то хорошим человеком. Посредственным, но хорошим. И завидовать кому-либо был не способен… Я толкнул дверь, Эдуард поднял было руку, чтобы, как всегда, похлопать меня по плечу, но, не достигнув верхней точки, рука его замерла на миг и устремилась вниз, и Эдуард просто крепко сжал мою ладонь. Я посмотрел ему в глаза: белки усталых глаз были красновато-желтыми, под глазами набухли темные мешки, а лица в целом выражало глухую тоску.
Отсутствовал я в родном городе, примерно, год. Выставка в Кёльне прошла еще успешнее, чем прогнозировал директор галереи; продажей моих картин занимались теперь профессионалы, от меня ждали новых работ, и, набравшись художественных и жизненных впечатлений во время «дикарского» турне по Германии, Чехии, Франции, Британии, Голландии, Средиземноморью и Северной Африке, я вернулся в свой бедный домик на окраине. Мог бы теперь арендовать и просторную мастерскую-студию с широкими окнами в потолке, и хорошую квартиру для проживания, и даже отдельный дом. Но я так привязался к своему старому жилью и унылым, запущенным окрестностям, что решил повременить. Думал: закончу на прежнем месте хотя бы с десяток картин, а там видно будет. Деньги тратить на себя я, конечно, не умел совершенно! Этому еще предстояло научиться. А пока я назначил матери и сестре-первокурснице «пенсию» и «стипендию» имени себя, а также подарил неизбалованной родителями сестрице малолитражную автомашину, «бздюху», как сестра ее ласково называла. Отец умер как раз в тот день, когда я начал серию одиноких экскурсий по Ватикану, но на похороны я не поехал, и не из принципа или обиды какой, а просто пожалел тратить драгоценное время на совершенно неинтересную мне церемонию.
Во время путешествий я перебрасывался с Лекой и Эдуардом лаконичными э-посланиями, и знал, что мой старый однокашник прошел курс лечения от алкоголизма по тибетской методике, но в Швейцарии, где древние способы очищения души и тела дополнили передовой европейской терапией. Мне не терпелось увидеться с Лекой, но позвонил я, конечно, не ей, а Эдуарду, рассчитывая получить приглашение… Эдуард радостно воскликнул: «У меня свободный вечер, мы сами заедем к тебе… если ты, конечно, свободен!» Приехал он, впрочем, один. На серебристом внедорожнике. Сказал, что Лека чуть-чуть занемогла. Я встретил его во дворе, он выглядел прекрасно: веселый, бодрый, ясноглазый, в элегантном вельветовом костюме цвета мокрой сосновой коры. «Как тебе моя новая тачила? – Спросил он, мотнув головой в сторону сверкающего чудовища. И, не дожидаясь ответа, затараторил, как-то умудряясь при этом не выглядеть суетливым. - Вобщем-то она пока не моя… Старики приобрели и доверили мне… В счет будущих моих, так сказать, предполагаемых успехов… хм-м… А если нападут на меня те успехи, то обещали оформить дарственную… хм-м… Хотя вообще-то – не мой стиль. У моих предков все-таки буржуазный вкус! Ха-а… Я бы предпочел чего-нибудь… в стиле американских 70-х… ну и, конечно, потемнее! Винтажное, как сейчас говорят… Если дела пойдут, то я знаю одного умелого кекса, который реставрирует старые кузова и впрягает их в современные моторы. А как ты – еще безлошадный! Ну-да, ты же всегда был равнодушен к роскоши… А как у тебя дела… в целом?.. Хотя, да… наслышан уже, наслышан… Поздравляю!!! Наши местные завистливые коллеги по поводу твоего неожиданного – но заслуженного, на сто двадцать процентов заслуженного! – успеха чуть ли не в трауре… Никто не ожидал! А теперь – локти грызут!.. Но я-то в тебя всегда верил! И Лека верила, и мои родители… Наша семья всегда к тебе очень хорошо относилась. Переживали, что путь твой жизненный такой… хм-м… непростой… Но вот сейчас ты и получишь все свои запоздалые награды! Я в этом не сомневаюсь… Есть же все-таки справедливость в этом мире?..»
Слушая его жизнерадостную болтовню, я вел его по тропинке к дверям. Внутренне я усмехнулся, услышав, что, оказывается, «всегда был равнодушен к роскоши»… А что, разве у меня был выбор?!
Мы вошли в гостиную, которая одновременно служила и мастерской; а спальня моя находилась в этом же помещении – за ширмой. Эдуард оглядел мое жилье: покрытая царапинами и порезами столешница на ножках из необработанных сосновых поленьев, ящики с мятыми тюбиками краски, пластиковые стаканы с карандашами и кисточками, несколько венских стульев и тахта, сделанная из деревянных ящиков, листы фанеры, сложенные в стопку, багеты для рам, составленные в угол, а на подоконнике – горшок с маленьким лимонным деревом и бесполая гипсовая голова с тщательно вылепленными мышцами и сухожилиями. «Все та же аскетичная берлога убежденного отшельника, и это здорово!.. – Сказал Эдуард. - Жениться-то не собираешься, нет?.. Ну и правильно… Я бы тоже не женился, если б знал, какая это мутотень – валандаться с женой… Нет в женщинах склонности к аскетизму. Нет, Лека – отличная баба, плохого не скажу, но иногда остозвиздевает как сам знаешь что…»
Я не знал, как «что» Лека ему «остозвиздевает». И меня покоробило, что прирожденную эльфицу он назвал «бабой». И мне подумалось, что вообще-то, не столько он «валандался» с ней, сколько она – с ним! И что жить с пьяницей, это очень суровая аскеза для любой женщины. И «склонности к аскетизму» никогда не наблюдалось как раз-таки у барчука Эдуарда…
Он получил Леку в дар от судьбы. И, как все прочие ее прекрасные дары, не ценил, что ли?
Когда я предложил гостю кофе: «Эдик, меня в Тунисе научили варить потрясающий кофе – с пряностями! Будешь?» - У меня не было никакого коварного плана в голове. Скорее, я грустил: «Теперь Лека точно останется с ним… Если уж она осталась с ним пору болезни и неудач, то теперь-то…»
Он ответил: «Кофе? Что ж, отлично, давай! Только алкоголя не надо, мне нельзя!.. А, впрочем, ты ведь его и не держишь». Я подумал: «Ну, что ж поделать… Он – принц, а я – Карлик Нос!»
Сказал: «Полистай альбомы, я прикупил в музеях. Мне нужно минут десять…» Зашел на узкую кухню, открыл дверцу настенного шкафчика, достал поджаренные кофейные бобы и баночки со специями. Смолол кофе вместе с кардамоном, гвоздикой, перцем, мускатным орехом и ванилью. Налил в металлический полулитровый кофейник холодной воды, насыпал кофе, поставил кофейник на плиту и включил газ. Не отрываясь, смотрел на медленно поднимающуюся коричневую пенку. Когда пенка мелко запузырилась у края посудины, снял кофейник с плиты, выключил газ. Открыл второю дверцу шкафчика, достал упаковку миндальных печений. Разместил на подносе сахарницу, кофейник, две чашки, корзиночку с печеньями.
Эдуард ошибался, алкоголь в моем доме имелся. Небольшой запас хорошего бренди на случай головной боли или простуды. Я открыл третий шкафчик, взял почти полную бутылку, оглянулся. Отвинтил крышечку, налил в столовую ложку светло-желтую ароматную жидкость и булькнул ее в кофе, снова оглянулся. Принюхался к поднимающему пару… Посомневавшись чуть, добавил еще ложку, размешал, понюхал еще раз, щелкнул крышкой кофейника как створкой раковины. Взял поднос и направился в комнату.
Попросил Эдуарда поставить стулья поближе к столу и убрать со стола листы ватмана, карандаши и альбомы с репродукциями. Поставил поднос на стол, сказал: «Пару минут подождем, пусть настоится».
Эдуард, указав на мольберт с недавно загрунтованным холстом, - а грунтовал я всегда самолично, - спросил: «Как с идеями? Не бойсь, не украду!» На холсте еще не было даже карандашного наброска, я еще не знал, что буду писать. Ответил: «Я и не боюсь… Красть-то особо нечего. Новации – не моя сильная сторона, а твоя… Я всего лишь хороший ремесленник – своих-то идей не густо, подворовываю, как всегда, у старых мастеров…» - и указал на художественные альбомы, которые Эдуард положил на пол у стены.
«Ну-ну… Унижение паче гордости! – Сказал Эдуард и задумался. – А я… О задуманном ведь нельзя рассказывать… Но тебе, как другу… Ты ведь молчок, да? – Я кивнул в знак согласия, и Эдуард продолжил. – Ты замечал, как, например, красивы крылья у бабочек?»
«Да, конечно».
«И крылья стрекоз… и листья деревьев… и лепестки цветов… Краски! Узоры!.. Природа уже все сотворила!.. Так вот… - И Эдуард наклонился вперед и понизил голос, как будто хотел сообщить мне страшную тайну. – Я уже попробовал… Берешь макро-фотоснимок крыла той же бабочки… Выделяешь какой-нибудь фрагмент… увеличиваешь… И – один к одному копируешь на холст… И чудесная абстрактная картина готова! А?»
Я пожал плечами: «Приникнешь, буквально, к природе, будешь черпать…»
Иронии он не уловил.
«Ты не сомневайся – выходит здорово, красота! И, главное, кладезь эта – неиссякаема!»
«Наверное… Да, подобные изображения могут разнообразить любые интерьеры».
«Ну, дык, а я о чем! Сейчас живопись, в основном, покупают для оформления офисов, богатых квартир. Это стильно! Лишь бы мне правильно подать новую серию работ, вписаться в рыночную нишу… Но на то есть особые специалисты – торговать искусством». – И Эдуард довольно рассмеялся.
А ведь пойдет у него это дело, подумал я. Удачник! За что ни возьмется, все в его пользу. И Лека, конечно, останется с ним.
Я разлил кофе по чашкам и придвинул одну Эдуарду: «Угощайся! А то остынет…»
Эдуард поднял чашку с блюдца, поднес ко рту. Принюхался. «С чем это?» - спросил подозрительно. Я замер, сердце застучало сильнее, я постарался расслабить лицо.
«С кардамоном, гвоздикой, перцем, мускатным орехом и ванилью. – Ответил я ровным голосом. – Ваниль настоящая, не ванилин».
Эдуард отхлебнул: «Хм! Интересно… Вкусно!.. С перцем даже?.. А это все еще кофе или уже кофейный суп?!»
Я отпил из своей чашки. Бренди не чувствовалось, только кофе и пряности.
С некоторой тревогой я наблюдал за Эдуардом, скрывая нервное напряжение за улыбками, прищуриванием глаз и прочей мимикой. Ведь кто знает, как после курса древней тибетской и передовой швейцарской методик подействует на него даже небольшая доза алкоголя. Может, он и от одной капли рухнул бы на пол?!
Когда мы вышли во двор, Эдуард вздохнул полной грудью, раскинул руки в стороны: «Эх, какой вечер! Пьянеешь от одного только воздуха!» Уже стемнело, на фоне пламенного заката чернела ажурная металлическая башня, распустившая во все стороны провода, как лучи; ветви старых тополей покачивались; пахло жасмином и свежими стружками; с криками «Ы-а-а!.. Ы-а-а!..» - носились близко к земле крупные птицы, а прохладный ветер обещал скорый дождь.
Разворачиваясь, Эдуард пару раз мигнул мне фарами, а я в ответ помахал рукой.
Улегся на тахту, накрылся полосатым пледом и услышал, как по крыше пробежала кошка, и сразу вслед за этим крупные капли забарабанили по шиферу. Заснул я, как всегда, быстро и спал крепко. Мой сон никогда и ничто не могло нарушить
Нет, я, конечно, не желал смерти Эдуарда. Я всего лишь хотел, чтобы он свалился обратно в ту яму, которую заслуживал.
Кто же знал, что он по дороге домой остановится у магазина. И начнет отхлебывать понемногу из горлышка, будучи за рулем.
Полицейский махнул ему палочкой на пустом ночном шоссе, влажном от недавно хлестнувшего краткого ливня. Эдуард не остановился. Патрульные погнались за ним. Эдуард лишь увеличил скорость. Водитель-полицейский врубил мощный дальний свет. Вспышка отразилась в зеркале заднего вида машины преследуемого и, видимо, ослепила его. Он потерял контроль над управлением и на скорости за сотню врезался в колонну воздушного моста. Умер в карете скорой помощи. В крови нашли алкоголь, а початую бутылку виски, опустошенную граммов на двести, - в бардачке.
На похоронах я стоял близко к могиле, среди друзей и родных. Широкую поляну, окруженную елями, заливал утренний, но уже жаркий сноп солнечных лучей. Людей пришло очень много, большую часть я видел впервые. Мужчины, запакованные в темные костюмы, с дорогими венками в руках, женщины с букетами роз и гвоздик. Я взглянул на склонивших головы и поджавших губы родителей Эдуарда и почувствовал укол совести: ведь это же я, пусть и косвенно, поспособствовал смерти их единственного сына!.. Но совесть успокоилась от простой мысли: а никто не заставлял его пить за рулем мчащегося автомобиля, мог бы и до дома дотерпеть; никто не заставлял его играть с полицией в догонялки, остановился бы сразу, ну, подумаешь, лишился бы прав, но остался бы жив.
Лека стояла рядом со мной. Траурное одеяние – юбка до лодыжек, блузка с длинными рукавами и легкий беретик – ей очень шло. Из-под беретика выбивались пряди волос ярко-красного цвета. Лека опять коротко постриглась. Посмотрела на меня и сказала тихо, как бы извиняясь: «Перекрасила за день до аварии… Кто же мог знать!»
Гроб опустили яму. Лека пошатнулась, ухватилась за мою руку, сжала ее. В этот момент я понял, какую картину из новой серии начну писать первой. Пришло в голову и название: «Женщина, только что потерявшая мужа, тайком от свекрови примеряет красное платье». Платье я напишу такого же цвета – цвета перезрелой вишни, - что и волосы у Леки.
И я попрошу ее позировать мне. Удобно ли в период траура? Нет, лучше все-таки после.
Но позвонить я смогу ей уже завтра. Нет, лучше дня через три… через три. Так-то будет верней.
Последние публикации:
Громкий вопрос, заданный вселенной –
(28/12/2021)
Участвовал в массовке –
(16/04/2021)
Как я работал на мафию –
(13/04/2021)
Долго не мог понять –
(09/04/2021)
Уходил я в армию при развитом социализме –
(05/04/2021)
Однажды, в некой компании –
(02/04/2021)
В 84-ом, кажется, году –
(25/03/2021)
Кризис среднего возраста –
(21/01/2020)
Остров счастья –
(19/05/2015)
Мститель –
(16/02/2015)
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

