История как художественный текст. Воображение истории. Язык
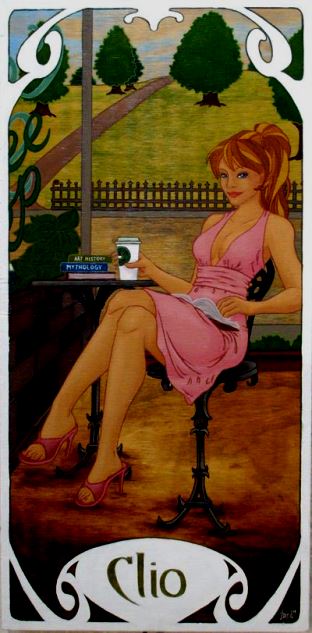 Какой бы вид ни принимала Смерть в бесчисленных парафразах бессознательного как бы не изменялось вещи, “которые действуют самостоятельно и нами не управляемы”1, сам факт изменения (процесса означивания) свидетельствует о свободе вступать со Смертью в языковые отношения, т.е. различными способами ее отрицать.
Какой бы вид ни принимала Смерть в бесчисленных парафразах бессознательного как бы не изменялось вещи, “которые действуют самостоятельно и нами не управляемы”1, сам факт изменения (процесса означивания) свидетельствует о свободе вступать со Смертью в языковые отношения, т.е. различными способами ее отрицать.
Язык, являющийся в обозримом прошлом надежной крепостью вечного сопротивления человека, даровал ему место в мире. Место определялось крепостными стенами, а связь с миром – не замечающими стен лабиринтами дискурса.
Объявляя войну идее Истории, занимаясь поиском иных измерений, мы все еще обречены оглядываться на обломки разрушенных крепостей, т.е. неизменно апеллировать к языку. Однако поиск трансисторических моделей Бытия позволяет отбросить закостеневшую семантическую оболочку и, сделав язык прозрачным, увидеть в нем тотальное историческое исследование: in fakto, если представить историческое событие как изменение формы – трансформацию знака инициального в знак финальный, - то система социоисторических детерминаций описывается знаковыми отношениями, структурирующими язык, - синтагматическими, парадигматическими и символическими2.
Синтагма
У ацтеков во время самого крупного годового праздника Токсатль в жертву приносили человека, которому до этого на протяжении года воздавались божеские почести и который идентифицировался с главным богом – Тецкатплипоком3.
Здесь налицо свободный выбор точки жизненного отсчета и синтагматическая протяженность этого выбора. Вероятно, вышеописанный ритуальный акт нельзя называть событием, ибо в нем выясняется возможность события как такового, утверждается и одновременно отрицается – в силу произвольности выбора – наличие некоей статической точки, центрирующей доязыковый хаос в Имени, застывающем вместе с кровью на жертвенном алтаре.
Отобрать власть у Безымянного значит бесконечно протянуть во времени процесс означивания; собственно вручить власть самому процессу означивания, лишив возможности состояться не только Хаосу, но и самому себе.
Сильная позиция синтагматического сознания в антропологической ретроспективе – без сомнения, ритуал. Совпадение годичного цикла жизни с годичным циклом природы, смерти человека с рождением бога свидетельствует о соположении знаков – соседей в замыкающейся на себе синтагме, о построении такой зависимости, в которой смысл (означаемое) постоянно мечется между возможностью и невозможностью быть и которая является вечным эхом Невысказанного.
Языковая и природная реальности в синтагматическом сознании совпадают, в силу этого оно актуально: функционально и сугубо исполнительно.
Ритуал, будучи царством Означающего и играя взаимопревращениями имен, не выпускает жизнь за границы этой игры, превращает весь мир и его исполнителей в зрелище.
Испытательный полет языка в синтагме есть проба тех сил, ареной борьбы которых в дальнейшем явится человек. Это еще не вольные набеги дискурса, наделенного абсолютной властью, и даже не “панический трепет смыслов”4, - это лишь сдвиг в сторону языка, - оформление языком самой невозможности быть оформленным5.
Непрерывность развития знака – динамика его связей и монтаж им ритуала исключают перспективное его видение (а значит отношения подчинения), не позволяет состояться Словарю с его семантической дискретностью. Сказанное выше позволяет считать ритуал тотальным Синтаксисом Истории.
Парадигма
Чжуан-цзы так рассказывает об истории некой Женщины Юй:
“Я восприняла Дао от сына Писца, а сын Писца воспринял его от внука Чтеца, внук Чтеца воспринял его от Зорко Смотрящего, Зорко Смотрящий воспринял его от Чуткого Слуха, Чуткий Слух воспринял его от Пребывающего – в – Трудах, Пребывающий – в – Трудах воспринял его от поющего Песни, Поющий Песни воспринял его от Глубокого Мрака, Глубокий Мрак воспринял его от Безначального”6.
Ужас перед неопределенностью, что в своей последней глубине являет синтагматический язык-изображение вынуждает закрепить означаемое – инициальную позицию смысла – устойчивой формой памяти, своеобразным титром изображения. Но, как видно из приведенного фрагмента, этот титр (в данном случае – Дао) призван не столько декларировать смысл, сколько его табуировать, прятать в сети инвариантов.
Женщина Юй (и сам Чжуан-цзы) живут в разомкнутом метафорическом поле, знаковый узор которого тем сложнее, чем далее от неявленного центра. Этим любой из героев в истории Женщины Юй отличается от мексиканского бога: если последний связывает своей смертью неродственные до этого явления, делая их знаками, то мифологический герой живет лишь в окружении других мифологических героев, т.е. живет для того, чтобы дать жить брату.
Таким образом, над миром утверждается власть упорядоченного множества родственных, связанных между собою виртуальными отношениями дискретных космических единиц.
Сличение знаков – братьев – это реализация парадигматического события, выступающего в своей сильной позиции в мифе. Герой является функцией мифа, его существование неотделимо от мифа7 и есть по выражению Р. Барта “динамика запроса”8 означаемого, которое явленно в оппозициях, довлеющих себе и разрешающихся в иной плоскости. Стремящийся к опустошению означаемого мифологический герой (парадигматический человек) наблюдает Означающее лишь в профиль, в его внешней связи с другими означающими. Не раскрытие, но колонизация смысла, его опосредствование – вот основная функция парадигматического знака. Тайна, связывающая знаки в парадигме может сохраняться в плероме пра-Имени (Дао у Женщины Юй; Огонь, а точнее – экпюросис (воспламенение) у Гераклита), либо в наделенных апофатической природой знаках-инвариантах, когда Пра-Имя не востребовано (Числа у пифагорейцев), либо даже в катафическом отрицании мифологического космоса (в гностическом докетизме).
Общее для любой парадигмы внутреннее единство сохраняется отношениями гомологии (аналогии функций), в которые включены все знаки. Мир в парадигме предстает коллекцией дискретных форм и может быть манифестирован как тотальный словарь Истории9.
Парадигматическое сознание не видит глубины знака; взгляд вовнутрь табуирован для него, раскрытие тайны его внутреннего – символического – отношения есть гибель парадигмы.
Вот почему парадигматическое сознание может быть интерпретировано в антропологическом ракурсе как сон, а сменяющее его символическое сознание – как пробуждение и осознание своей исторической биографии.
Язык 1, 2
Граница природного явления и его языковой функции, граница, на которой пытается и не может удержаться смертный, прочерчена от первого ритуального жеста до первого слова и характеризует эпоху, чреватую языком и от него отстраненную. Это эпоха прото-мифа, эпоха языка, прозрачного настолько, что он подвергается жрецом – грамматиком самоотождествлению (верификации) с той же легкостью, что и жертва на алтаре10. Здесь впервые заявляется та определенность, которая впоследствии утонет в глубинах, ею же самой предсказанных и найденных.
Осуществление же самого предсказания происходит посредством измерения знака – в сличении форм расчлененного языка, установлении иерархии11.
Только такой иерархически выстроенный язык, язык, в котором несводимые противоположности опосредуются медиатором – предикатом12, институализирующим результат, приобретает статус парадигматического. Другими словами, миф существует лишь “вне мифа”. Он мистифицирует свое существование в утверждающих идею мифа жанрах словесности. Именно из этой плоскости перемещается измеренный и изношенный в бесконечном самоутверждении парадигматический знак, чтобы обновиться в бездонной глубине своего собственного содержания.
Символ
Так объекты, некогда существовавшие субстанционально и связанные между собой сочинительными связями, становятся объектами словесными, искусственными и подвергаются чисто языковым преобразованиям.
Тайна, связывавшая знаки и хранимая человеком, забывается, становится недоступной ему (человек исключает себя из парадигматической совокупности знаков). Возрастает угроза знаковой агрессии и, соответственно, потребность в чисто человеческом внутреннем – измерении. В стихийной и не управляемой толпе людей сплачивает символ (symbolon) – условный вещественный опознавательный знак, предохраняющий от подчинения чужеродной целостности мифа и дающий право принадлежать к организованной целостности фантазма.
Лишь понявший смысл – принявший условное означаемое – становится носителем символа.
Парадигматическое сознание в своей внутренней данности было живым и бесконечным. Учение, в котором оно интенционально воплощалось, передавалось телесно, от учителя к ученику13. Однако во внешней своей данности парадигматическое сознание агрессивно, оно брало на себя миссию “сохранения ясности”, наделяя сакральным смыслом субстанциональное бытие, т.е. Учение пребывало заголовком мирового текста, История понималась как сосуществование учений.
Символическая функция, действию которой подвергается парадигматическая полисемия, трансформирует многосторонние гомологические связи в двусторонние аналогические.
Так, только с утверждением символа, отношения подчинения обретают легальный статус. Поиском и присвоением Означающего в бездонной глубине Символа занят отныне человек, для которого внешнее видение знака сменилось внутренним. В чувственно-материальную стихию он спускается “сверху”, из означенного предметно-реального мира.
Взаимообратимость символического смыслостроительства, отсутствие видимой точки опоры, зафиксированной в знаке – либо в метазнаке (слове) – выпускает язык на волю из парадигматических сетей. Нет такой области жизни, которая была бы неподвластна Символу. Язык отныне творит Историю, захватывая ее объем в бесконечные ряды оппозиций, совершая вольные преобразования, как с Синтаксисом, так и со Словарем. Человек, давший толчок развертыванию Языка, подхватывается им и включается в его бесчисленные метаморфозы.
Символическое сознание бесконечно в перспективе формостроения и этим самым оно декларирует свой отказ от застывшей формы. Язык становится художественной формой – единым живым организмом, регулирующим как свое внеположенное, так и внутреннее бытие14.
Символ погружает человека в недостижимую и утраченную пучину сакральности, лежащую вне сфер Названного, и человеком неуправляемую. Надстроенный над бессознательным, язык оказывается лишь лестницей в никуда, но, одновременно, и механизмом, перемещающим человека по этой лестнице. Человек же, некогда включивший механизм Символа, предпринимает попытки его регулировать с помощью догмата, - фиксированного означаемого, смысла, возведенного в абсолют. Таковым становится святой дух, переводящий сакральность (святость) из эзотерической в экзотерическую сферу, имитирующий ее доступность человеку. С утверждением религиозного мифа – святого духа, человек – миф утрачивает статус конституирующего начала культуры. Отныне значение человека становится ее организующей идеей и обменной единицей, поверяемой благородным личностно-конвенциальным Абсолютом – святой дух подхватывается неуправляемой художественной стихией Языка и не подчиняется человеку. Смыслом всех смыслов становится интеллект, находящий все более универсальные средства, чтобы замкнуть символ в его однозначности, и делающий его, соответственно, все более многомерным и стихийным15.
Язык 3
Так Символ, неисчерпаемый по своей природе, становится неисчерпаемым в силу ее утраты, минует стадию испытания аллегорией и умирает, вывернувшись наизнанку, рассыпавшись на бесчисленные аналогии. Классифицируя значения, человек обнаруживает себя функцией собственных классификаций в бесконечно разомкнувшемся Символе.
Установление новой гомологии знаменует собой возвращение к Парадигме – системе уже не природных, но культурных детерминаций. Если парадигма мифа выстраивала язык из зримых фигур – хаотической награможденности знаков – объектов, то новая парадигма развертывает структуру метаязыка из совокупности языков – объектов, варьируя и утверждая их в качестве ассоциативных и релятивных означаемых.
Человек, некогда боровшийся с природной стихией за свое значение, затем, став жрецом-грамматиком, утверждавший свою власть над языком, расчленяя и деформируя его, принося язык в жертву, и сам превратившийся затем в жертву бесконечно свободного языка, пребывает уже не носителем бесконечного множества смыслов, но производителем смыслов, “так, словно человечество стремится не к исчерпанию смыслового содержания знаков, но единственно к осуществлению того акта, посредством которого производятся все эти исторически возможные изменчивые смыслы”16.
Воображение Истории
Каждое из трех рассмотренных сознаний исследует мир своими собственными средствами, т.е. существует, потому что слепо. Прозрение человека – это утрата заданной языком свободы, это отречение от языка, а, значит, - и от себя. История предстает как запись поиска нового языка, а любое сознательное измерение адаптирует историческое письмо к своей слепоте.
Итак, человек постоянно совершает насилие над дарующим жизнь языком, заключая себя в стенах единственного видения и исключая все прочие. Вооруженный одним отношением, человек никуда не ушел от алтаря, в то время как язык, отбросив означаемое, давно совершает полет, оторвавшись от человека и весьма далек от его жреческих манипуляций.
Пребывая в качестве тотального Означающего (текста), лишась ненужного балласта – нарцисстического места человека и его производных – исторических и антропологических детерминаций, язык, по сути, приносит себя в жертву самому же себе, оставляет человека вне языка и отводит ему роль Наблюдателя.
Человек вновь остается один у алтаря, но на этот раз не для того, чтобы в предсмертном крике утвердить себя Богом, но для того, чтобы, наконец, обретя зрение, увидеть себя продленного в Вечность Воображением Языка.
-
К.Г. Юнг. Об архетипах коллективного бессознательного. М., 2004
-
См.: Р. Барт. Воображение знака. В кн.: Р. Барт. Избранные труды. Семиотика. Поэтика. М.: “Прогресс”, 1989.
-
Дж. Дж. Фрезер. Золотая ветвь. М.: МГУ, 1986, гл. “Практика умерщвления бога в Мексике”, с.с. 550-552.
-
Это выражение Р. Барт употребляет в следующем контексте: “Полисемия заставляет задаться вопросом о смысле изображения; такой вопрос всегда оказывается проявлением дисфункции – даже в том случае, когда общество компенсирует эту дисфункцию, превращая ее в трагическую (молчание бога не позволяет сделать выбор между различными знаками) или поэтическую (вспомним панический “трепет смыслов” у древних греков) игру”. (Р. Барт. Риторика Образа. Указ изд., с. 304).
-
Ср. определения синтагматического сознания у Р. Барта: “Синтагматическое сознание является сознанием /…/ ограничений, допущений и степеней свободы, которых требует соединение знаков. Из трех сознаний именно оно наилучшим образом обходится без означаемого: оно в большей степени структурировано, нежели семантично; вероятно именно поэтому синтагматическое сознание наиболее приближено к практике”. (Р. Барт. Воображение знака. Указ изд., с. 250).
-
Чжуан-цзы, пер с кит Л.Д. Позднеевой, в кн.: Атеисты, материалисты, диалектики Древнего Китая. Ян Чжу, Ле-цзы, Чжуан-цзы. 6-4 в.в. до н.э., М., 1967, с.с. 164-165.
-
Ср. у Р. Барта: “Стоит проявить чуть больше почтительности к гению и вся среда рассыпается на мелкие кусочки”. (Р. Барт. О Расине. Указ изд., с. 214).
-
Р. Барт. Воображение знака. Указ изд., с. 251.
-
Ср. определения парадигматического сознания в работах Р. Барта.“Парадигма – это по возможности минимальное множество объектов (единиц), откуда мы запрашиваем такой объект или единицу, которые хотим наделить актуальным смыслом”. (Р. Барт. Структурализм как деятельность. Указ изд., с. 258). “Оставляя означаемому только его обозначающую роль (оно указывает на означающее и позволяет выделить члены оппозиции), парадигматическое сознание тем самым стремится опустошить его; однако само значение при этом не уничтожается”. (Р. Барт. Воображение знака. Указ. Изд., с. 250).
-
Об этом см. в част.: В.Н. Топоров. О ритуале. Введение в проблематику. В. кн.: Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М.: “Наука”, 1988, с. 21.
-
Вот как характеризует эту эпоху А.Ф. Лосев: “Намечается постепенный переход от умножающих жизнь стихийных сил Земли к сиянию и блеску солнца, согревающего эту землю, и, наконец, к Зевсу, упорядочивающему весь мир”. (А.Ф. Лосев. В.П. Шестаков. История эстетических категорий. М., 1965).
-
По Кл. Леви-Строссу мифологическое мышление, в частности, устанавливает сетку отношений между социоисторическими фактами и выполняет специфическую задачу медиации несводимых противоположностей. (См.: П. Маранда, Э Кенгас-Маранда. Структурные модели в фольклоре. В кн.: Зарубежные исследования по семиотике фольклора. М., “Наука”, 1985, с. 198).
-
По этому поводу см. в част.: В.С. Семенцов. Проблема трансляции традиционной культуры на примере Бхагавадгиты. В. кн.: Восток-Запад Исследования. Переводы. Публикации. М.: “Наука”, 1988, с.с. 27-29.
-
В контексте обратимости смысловых связей символа, актуализация внутреннего, именно символического бытия, поглощающего его внешние коммуникативные характеристики, прослеживается в следующих определениях символа, данных Р. Бартом и А.Ф. Лосевым и помещенных в порядке убывания характеристик его профанического существования и возрастания художественной стихийности “первоначал”:“Аналитический взгляд скользит мимо формальных отношений между знаками, не замечая или игнорируя их, ибо по самой своей сути символическое сознание есть отказ от формы. В знаке его интересует означаемое, означающее для него всегда производно”. (Р. Барт. Воображение знака. Указ изд., с. 248).“/…/ Символ представляет собой не столько кодифицированную форму коммуникации, сколько аффективный инструмент приобщения”. (там же).“Символ есть некий языковой элемент, который перемещает тело и позволяет увидеть, угадать некую иную площадку действия”. (Р. Барт. Текстовый анализ одной новеллы Эдгара По. Указ. изд., с. 157). “Символ есть принцип бесконечного становления с указанием всей той закономерности, которой подчиняются все отдельные точки данного становления” (А.Ф. Лосев. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: “Искусство”, 1976, с. 35).“Символ есть такая образная конструкция, которая может указывать на любые проявления реального инобытия, в. т.ч. не имеющие четкого ограничения” (А.Ф. Лосев. Проблема вариативного функционирования живописной образности в художественной литература. В. кн.: Литература и живопись. Л., “Наука”, 1982, с. 57).
-
Вот как об этом пишет К.Г. Юнг: “/…/ Когда улетучивается принадлежащее нам по праву родства наследство, /…/ на дух спускается со своих огненных высот. Обретая тяжесть, дух превращается в воду, а интеллект с его люциферовской гордыней овладевает престолом духа. Patris Potestas (отческая власть над душой) может себе позволить дух, но никак не земнорожденный интеллект, являющийся мечом или молотом в руках человека, но не творцом его душевного мира, отцом души /…/”. (К.Г. Юнг. Об архетипах коллективного бессознательного, с. 139).
-
Р. Барт. Структурализм как деятельность. Указ изд., с. 259.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

