Настоящего нет
Главы из романа
Продолжение.
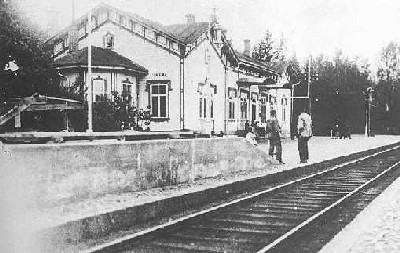 |
Здесь: здрасьте – это я
Я иду устраиваться на новую работу. Нам со Светой нужно питаться
и платить за квартиру. У меня большой опыт. Я уже работал. Причем,
много раз. Я работал дворником, почтальоном, ночным продавцом
в круглосуточном магазине, редактором и корреспондентом в одной
рыбацкой газете (писал про путину и браконьеров), я работал охранником
в салоне красоты и преподавателем института, я писал сценарий
для компьютерной игры, ходил на демонстрацию (за это мне заплатили
50 рублей) и однажды даже продавал на рынке то, что на них обычно
продают. Последнее место работы – редакция одной малотиражной
газеты – до сих пор не пойму, кому она была нужна, наверное, деньги
отмывали ребята, заработанные на наркотиках, торговле оружием
и вывозом за рубеж русских проституток. В общем, на что газета
жила, ей-богу не знаю. Я писал там все подряд, но в основном «письма
в редакцию», знаете такую рубрику? Ее обычно на последней полосе
печатают. Работа не пыльная, но и не такая простая, как может
показаться. Тут человеческую психологию знать надо и полностью
перевоплощаться в другого человека. Здравствуйте дорогая редакция
– и так далее. У меня хорошо получалось перевоплощаться.
Объявление прочитал в газете – требуется автор рекламных текстов.
Позвонил, назначили время «собеседования». Что за моду взяли –
куда ни приди, всюду собеседовать надо. С кем, зачем собеседовать,
так вас перетак? О чем мне с вами говорить? Но – «надо», ничего
не поделаешь. Работа мне нужна.
Пришел. Дверь открыл охранник, молодой такой паренек в клетчатых
штанах – разумеется, на нем еще какая-то одежда была, но вот эти
клетчатые штаны как-то уж особенно заметны, взглянув на них раз,
на других деталях костюма глаз не останавливается. Клетчатые штаны
провели меня в большой такой стеклянный аквариум и закрыли за
мной дверь. Я такого подвоха, честно признаться, не ожидал. Сижу,
думаю, чем бы себя занять. Смотрю по сторонам – все ровненько,
гладенько, как в туалете. Евроремонт, понимаешь. Когда я уже стал
подозревать, что про меня совсем забыли, вдруг в аквариум врывается
моложавый живчик – энергичный такой, руками размахивает. Здравствуйте
- это он. Здрасьте - это я. Какой у вас опыт? – это снова он.
Я ему отвечаю, какой у меня опыт. Как есть, все и говорю – я же
честный человек, меня в детстве, когда в пионеры вступал, раз
и навсегда отучили врать. Живчик головкой мне покивал – мол, все
понятно – приходите, говорит, завтра к десяти часам, посмотрим,
что вы умеете писать. Хорошо - киваю - завтра к десяти часам приду.
Вот такая оказалась наша первая встреча.
Живчиком оказался креативный директор и одновременно мой тезка
Денис. Фамилию, извините, не скажу (вдруг человек обидится, был
у меня уже такой случай), ну, допустим, Оцеолов – на индейца он
немножко смахивает. Если вы меня спросите, что такое «креативный
директор», я вам не отвечу. Но предполагаю, это тот, кто принимает
на работу и получает больше всех денег. Такой важный директор,
креативный весь такой из себя.
На следующий день снова прихожу. Здравствуйте – здрасьте.
Оцеолов вводит меня в креативный отдел. Знакомьтесь, это наш новый
сотрудник, попрошу не чморить. Я раскланиваюсь. За мной снисходительно
следит десяток пар глаз (как мне показалось со страху, впоследствии
выяснилось, что сотрудников в отделе семеро). Мне указывают мое
рабочее место. Боже мой, это поистине то, что надо. Такого допотопного
компьютера я давненько не видел – наверное, они его на помойке
откопали. Хотя, если бы получше рылись, могли бы и помоднее компьютер
найти. Сажусь за свое место и начинаю обдумывать ситуацию. В общем,
теперь я в рекламном агентстве работаю. Пока на испытательном
сроке, это значит, что меня можно выгнать в любой день и любой
час – причем мое мнение тут мало что решает (это если, допустим,
решат-таки меня выгнать). А говоря на чистоту – ничего не решает
мое мнение.
Про меня на некоторое время забывают. Достаю из рюкзака (у меня
есть такой задрипанный рюкзачок) блокнот и ручку, всем видом свои
показываю – «к работе готов». Но даже и после этого на меня никто
не собирается обращать внимания. Это очень хорошо, это радует.
Не то что бы я был ленив и отлынивал от работы, просто начинать
подобным образом первый день на новом рабочем месте – хороший
признак. Это я только что придумал. Может, это и не так вовсе.
Смотрю на часы. У меня они есть – часы. Часы нужны для того, чтобы
по ним смотреть время. Иногда можно смотреть, который теперь день,
– если на часах есть календарь. У меня календарь тоже есть, и,
посмотрев, который час, я смотрю, какой нынче день. Потом я перестаю
смотреть на часы. Я поднимаюсь из-за стола и иду курить. Наш креативный
отдел – то есть отдел, который подчиняется важному директору,
который больше всех получает, - находится в подвальном помещении,
а курилка находится на первом этаже – я это заметил, когда спускался
в подвал. Теперь я поднимаюсь на первый этаж, чтобы покурить.
Наверху я встречаю своего креативного директора, он все так же
важно бегает по лестнице, – наверное, очень занят. Я тебе сейчас
дам задание, говорит он, а я ему говорю – ага, давай мне задание.
Потом Оцеолов убегает, я достаю сигарету и начинаю ее курить.
Пусто, никого нет здесь, в курилке. Хорошо. На полу, в уголке
лежит стопочка старых газет. Пожелтевшие страницы. Маленькие-маленькие
буковки, как букашки, расползаются в стороны, когда на них смотришь.
Я курю сигарету, курю сигарету, курю сигарету. У меня в носу растут
волосы.
Снова приходит Оцеолов, пойдем, говорит мне Оцеолов, со мной,
я дам тебе задание. И вот я иду с Оцеоловым снова вниз, в подвал,
где мое рабочее место, которое я уже успел полюбить, потому что
оно такое позорное (а я люблю позорные рабочие места – очень!).
Оцеолов дает мне какие-то листочки и говорит – ознакомься, говорит,
надо делать макет для прессы, говорит, времени мало, приступай
прямо сейчас. Я приступаю – знакомлюсь с бумагами. Листаю их,
там всякое написано. Листать их, знакомиться, то есть – это совсем
нетрудно. Трудно понять – что от меня хотят. Что я должен делать
после ознакомления. Впрочем, об этом еще рано думать, потому что
знакомиться с бумажками следует как можно лучше, ведь это мой
первый рабочий день на новом месте – нельзя ударить в грязь лицом,
или как там это еще говорится?
Поизучав доверенные мне бумажки, снова иду курить. Потом снова
иду изучать бумажки. Снова – курить. И так много раз. Домой ухожу
в шесть вечера. Вообще-то мне здесь до семи полагается сидеть,
но до семи вечера изучать бумажки с картинками – выше моих сил.
Я бы, может, и рад – но физически не могу, глаза устали смотреть
на них. Все равно – ничего нового я увидеть не могу, а только
то, что уже видел. В любом случае, здесь столько много занятых
людей, что моего отсутствия все равно никто не заметит.
Возле метро решаю купить себе записную книжку, есть там один киоск,
а в киоске этом я уже приметил себе записную книжку – толстенькая
такая, в ней можно писать что-нибудь умное, когда едешь в электричке,
или сочинять рассказ – на худой конец. В метро тоже можно писать
– если в уголочке место занять. Но тут я вспоминаю, что денег
на этот блокнот у меня нет, были с утра еще, а теперь нет. Утром
я купил себе пачку сигарет, а, значит, блокнот я купить уже не
могу. Так что пока придется без блокнота поездить. Есть у меня
способ скрасить дорогу – игра в гляделки – кто кого переглядит.
У людей, как у обезьян, прямой взгляд вызывает неприятные чувства.
Если ловишь на себе взгляд, начинаешь сам смотреть «в ответ»,
и - кто кого? – в общем, проигрывает тот, кто глаза отводит. Иногда
на меня снисходит вдохновение, и я, сделав рожу кирпичом, могу
смотреть на сидящего напротив очень долго. Как будто «так и надо».
Вроде я как умственно отсталый, и мне «можно».
Домой приезжаю в половине десятого вечера. Света кричит мне –
налей себе там суп, я разогрела, и еще кричит, - в хлебнице хлеб
возьми, я горчицы еще купила. Сама она смотрит телевизор, там
продолжение передачи про павианов. Переодеваюсь в домашнее, умываюсь
и прохожу на кухню. Наливаю себе суп, сажусь за стол. Дверь в
комнату открыта. Гарем Сломанного Пальца разросся, скоро часть
самок уйдет к Золотому Мальчику, который пока еще выступает в
гареме как самец-производитель №2. Сломанный Палец чувствует скрытую
угрозу и проявляет к Золотому Мальчику неадекватную агрессию.
Самки, как это ни странно, встают на сторону Мальчика, они понимают,
что Мальчик – более молодой самец, а это значит, что рано или
поздно он все равно станет вожаком гарема. Но сначала он уводит
половину самок и создает свой гарем. Новообразованное стадо павианов
пасется подле большого гарема – вместе Сломанному Пальцу и Золотому
Мальчику легче защищать самок от атак банды холостяков.
Поел, поставил тарелку на краешек стола. Закуриваю. На кухню входит
Светлана. Я сразу просовываю ладонь в ее промежность, туда, где
ляжки немного трутся друг о дружку при ходьбе. (Это я, наверное,
для красного словца написал, или еще почему – в общем, не знаю,
зачем это написал, но на самом деле, надо вам сказать, ляжки у
Светы друг о дружку не трутся, она худенькая у меня). Нет, я не
пристаю к ней – просто охота окунуть ладонь в эту теплоту. Говорю
– так странно: вдвоем теперь живем, и как будто своя квартира
у нас. Она – никакая не своя, и еще говорит, посмотри, сколько
денег на нее уходит. С Сашей жили – еще терпимо было, напополам
мы с ним платили за квартиру, а теперь – все 100% будем платить.
Света говорит – вот, он, кстати, записку тут нам оставил. Берет
с холодильника какой-то клочок бумаги, протягивает мне. Я беру
этот клочок и читаю его. Там что-то написано, почему-то не шариковой
ручкой, а карандашом. Где это он карандаш раздобыл, - думаю.
Света говорит: тебе нужно оперировать нос. Ты все время мне обещаешь,
что займешься этим, но так ничего и не предпринимаешь. И еще говорит:
я завтра тоже в Москву поеду, у меня там дело, и у тебя тоже,
- добавляет, - и у тебя тоже, кстати. Какие еще дела, - спрашиваю,
- нет у меня никаких там дел, - говорю, - так, пустяки только:
на картинки смотреть и думать о них, - говорю, - думать о картинках
этих, - и еще говорю, - и у тебя нет там никаких дел, нет и быть
их не может. Есть, - Света говорит, - есть у нас с тобой дела:
завтра в театр пойдем. Какой еще театр, - снова я, - ты же знаешь,
я театр не люблю, да и дорого. Ничего не дорого, - она, - бесплатно
пойдем, меня к себе в гости позвала Репкина, помнишь, я тебе рассказывала,
вместе работала я с ней – на старой работе. Так вот, у нее, оказывается
есть жених, а жених – грузин, кстати, - работает в одном очень
известном театре, - рассказывает Света, - и жених этот обещался
нас всех троих провести в театр бесплатно. Кого, троих-то, - снова
я. Нас, троих, - Света отвечает, - Репкину, меня и тебя. Меня?
Я не пойду. Пойдешь, как миленький, хватит уже жить тростниковой
жизнью, пора просвещаться.
Ну что ж, просвещаться, так просвещаться.
Там: капитал требует оборота
Год назад было так. Обычно Аля просыпалась рано. В предрассветные
сумерки она выходила на улицу выгуливать своего Туза.
Когда пес справит свои дела, вволю набегается и нарезвиться, она
возвращается в квартиру. Она идет на кухню и варит себе кофе.
Настоящий кофе в зернах, который она выписывает по почте из столицы.
Купить в Юльхоре такой кофе невозможно, здесь нет людей, которые
смогли бы оценить вкус настоящего кофе. К тому же, это слишком
дорого для большинства здешних жителей.
Все изменилось в одну из пятниц той осени. Этот юнец вклинился
в ее жизнь чужеродным предметом, и Алевтина поняла, что пусть
и не спокойный, но уже привычный уклад ее существования теперь
разрушен навсегда. Но более всего ее волновал вопрос – как, как
она могла допустить такое. Никто ее не неволил, она сама сделала
свой выбор. Сумасшедшая дура, ругала она себя, сумасшедшая дура!
Впрочем, признав, что поправить ничего невозможно, она успокаивалась
и начинала заниматься своими обычными делами, будто ничего и не
случилось – читала модные журналы, занималась йогой, курила длинные
дамские сигареты и смотрела в окно.
А между тем, самым непоправимым было то, что Цыганок в нее по-настоящему
влюбился. Если бы он был опытным, искушенным в амурных делах мужчиной,
положение еще можно было бы исправить – попытаться объяснить ему
всю двусмысленность ситуации, в которой она оказалась. Но Семен
был слишком молод, был влюблен в нее по уши, а значит, такое разрешение
событий было невозможным.
Дело в том, что Аля собиралась выходить замуж. За кого? За Сергея
Бестужева по кличке Математик, компаньона покойного мужа. На пару
они содержали пункт закупки пушнины. Дела у них шли ни шатко ни
валко, и тем не менее это кому-то не давало покоя. Николая убили
четыре года назад. Сама Алевтина не вникала в подробности дела
– не было желания копаться во всем этом, - но по слухам, которые,
конечно, до нее доходили, несмотря на все преграды и заслоны,
чинимые ею самой, - так вот, по этим слухам получалось, что мужа
«приговорила» одна из кавказских бригад, контролирующих их рынок.
Не хотел отстегивать на «братву», вот и поплатился за свою несговорчивость.
Все дела перешли к Бестужеву, тот был более покладист, поэтому
и жил в относительном благополучии. Ежемесячно он выплачивал ей
долю Николая. Жить, конечно, на эти деньги можно (другого источника
существования у Али не было – не считая старые запасы, разумеется,
– на книжке небольшая, но все же греющая душу сумма в валюте),
но сильно не пошикуешь. В Париж слетать, в Анталию не получится
– слишком накладно выйдет. Поделать с этим Аля ничего не могла,
но внутренне негодовала – при жизни Николая его доля в деле поболее
была.
Нет, она не отчаивалась, ведь теперь уже ничего не изменишь. Николая
нет, а ей еще жить… И все же, все же, все же. Она прожила с ним
шесть лет, а такой срок даром не проходит. Совсем молодой, глупой
семнадцатилетней девчонкой он взял ее в жены. И эти годы, конечно,
не могли в одночасье забыться, стереться из ее памяти. Невозможно
выразить словами то состояние, в которое она впала, узнав, что
Николая убили. Шок – это слово подходит здесь более всего, но
даже оно не способно выразить всю глубину ее потрясения. Она была
ошарашена, уничтожена. Нет, конечно, не от горя, хотя и горя было
немало. Она была удивлена, узнав, что жизнь вовсе не такова, какой
представлялась ей прежде. Оказывается, человек смертен – вот каково
было ее главное открытие. Человек, с которым она прожила бок о
бок шесть лет, прожила в одной квартире и спала в одной постели
– оказался смертен. А ведь он ее казался всемогущим. И она тоже
успела за это время заразиться этой бациллой, ей казалось, что
мир создан для нее, а другие – другие это антураж, который иногда
можно сменить.
Жизнь была безоблачной. Николай прочно стоял на ногах (как, порой,
зыбка бывает та твердыня, в незыблемости которой мы даже не сомневаемся),
затевал какие-то дела в области, помимо своей заготконторы. Договаривался
с финнами о поставках древесины. Але даже трудно было себе представить,
как бы сейчас она жила, если бы судьба ее не сделала такой крутой
поворот. Уж точно – и это единственное, что не вызывало сомнения,
- в Юльхоре бы она ни за что не осталась.
Сергей Бестужев начал к ней «подкатываться» года два назад. Аля
долго раздумывала, стоит ли с ним сходиться. Она была красива
– и всегда знала об этом, как знала и о том, что это дар судьбы.
Еще незамужней девчонкой, живя с родителями на Пилораме (живя
в относительном достатке, но вовсе не так, как ей того бы хотелось),
она знала, что судьба давала ей шанс, и этим шансом она должна
была воспользоваться. В конце концов, обладание редкостной красотой
– это тоже капитал. Капитал же требует оборота. Так ей говорил
Николай, а не верить ему у нее причин не было.
Конечно, Бестужев – не лучший вариант. Но годы шли, а ничего лучшего
под руку не подворачивалось. И если уж ей выпало прозябать в Юльхоре,
то лучше прозябать достойно. Достойное существование Бестужев
ей дать мог – по крайней мере здесь, на местечковом уровне. К
тому же, он молодой и выносливый самец, а это тоже немаловажно.
Окончательно она определилась со своим ответом около года назад.
Они валялись утром с Сергеем в постели после бурной вечеринки
– он возил ее в клуб, в котором выступала модная некогда группа,
теперь уже сошедшая с дистанции, но все еще – больше по инерции
– объезжающая отдаленные уголки провинции, в которых о популярности
музыкальных команд, как, впрочем, и о закате этой популярности
узнают на пять лет позже, чем в столицах. Пили импортное, горьковатое
на вкус пиво, которым был до верху забит холодильник в квартире
Сергея.
Аля поинтересовалась делами в конторе. Бестужев о делах говорить
не хотел. Он положил ей руку на бедро и затянулся сигаретой. Им
давно уже пора было пересмотреть взгляды на взаимоотношения.
Он возвращался к этой теме уже в который раз, и Аля не могла понять
его упорства. Неужели он и в самом деле хочет, чтобы она стала
матерью его детей? Она любит трахаться, и он прекрасно знает об
этом (в первый раз она переспала с Бестужевым еще при жизни Николая
– это произошло по случайности, так, от скуки, как она сама признавалась
себе, но ведь в каждой случайности можно найти закономерность
– и это тоже не секрет), но, несмотря на это, он предлагает ей,
как говорится, руку и сердце. Похоже, он на самом деле тупица,
хоть и закончил физмат университета. Но главной причиной ее колебаний
была все же не боязнь того, что в будущем Бестужев будет укорять
ее легкомысленность в вопросах половых отношений – этого-то она
как раз не боялась: Бестужев все готов был ей простить, потому
что она была, во-первых, умопомрачительно красива (и прекрасно
знала цену этой красоте здесь, в провинции), а, во-вторых, она
была некогда женой Николая, а это, действительно, была рыба большого
плавания, не чета Математику. Боялась же Алевтина продешевить.
Да, шестилетняя жизнь с Николаем не прошла даром – если бы он
остался жив, ему бы не пришлось стыдиться.
Но Математику было все равно. Он наклонился над ней и поцеловал
ее в живот, коснувшись языком дна пупка.
Это жалкое от безысходности действие тронуло Алевтину до слез.
Ей стало жаль и Бестужева, и себя, жизнь свою неудавшуюся и проваленную
по всем статьям. И тогда она дала ему свое согласие, но тут же
– все-таки окончательно сжигать за собой все мосты она еще не
решалась – взяла с него слово, что он не будет приближать сие
важное событие. Бестужев слово ей дал. Хотя через месяц это слово
уже нарушил. И на протяжении всего года нарушал еще несколько
раз. Алевтина же в свою очередь будто забыла о данном ею обещании.
Привычный уклад жизни она и не собиралась менять: клуб, дискотека,
мансарда Славы Житкова, художника и областной знаменитости – все
это уже давно стало частью ее жизни, отказаться от которой просто
так она не могла. Она тешила себя мыслью, что когда-нибудь изменит
свою жизнь, станет хорошей матерью и женой, но сроки – определить
для себя сроки она не решалась. В какой-то степени это был самый
насыщенный и интересный период ее жизни.
Бестужев все это должен был терпеть. Но вдруг он выказал такую
прыть, которой от него она вовсе не ожидала. Он заявился к ней
домой в изрядном подпитии. Не разуваясь и не снимая плаща, он,
мельком окинув ее взглядом, стоящую в дверях, прошел в комнату
и сел в кресло. Она молча закрыла дверь и прошла туда же. Он нагло
занял ее место – до его прихода она в этом кресле листала один
из модных журналов, которыми ее снабжал Слава Житков, вкусу которого
Аля доверяла вполне. Она села на диван и подобрала под себя ноги.
О, я знаю, о чем ты думаешь, - начал Сергей после недолгого молчания,
- нет, не перебивай меня… Ты думаешь – я свинья. Ну что ж: я не
отказываюсь. Свинья так свинья. В конце концов, свинья – тоже
человек. Я глуп и, быть может, не достоин тебя. Но, если это так,
то ты должна сказать мне об этом, а не морочить голову. А чем
я виноват, чем я заслужил такое отношение? Заметь: я ни разу не
попрекал тебя куском хлеба, хотя мог бы. Именно этим ты сейчас
занимаешься, - вставила Алевтина. Не перебивай меня - рявкнул
Бестужев. Пес, лежащий у ног Али, поднял голову и негромко зарычал.
Я ни разу не попрекал тебя куском хлеба, продолжал он, а ты? Ты
вела себя как последняя сука. Ты все время игралась мной. Но ты
заблуждаешься, Аля, ты очень сильно заблуждаешься. Твое время
прошло. Николая уже четыре года нет в живых. А я все еще жив!
Заметь это: я все еще жив! И теперь ответь мне: кто, кто выбрал
правильную позицию – он, уже четыре года лежащий на Горке, или
я, сидящий сейчас перед тобой?.. Молчишь?! Ты молчишь, потому
что тебе нечего сказать…А ведь, в свою очередь, я Николаю нечем
не обязан, заруби это себе на носу. Я в любой момент могу оставить
тебя, и при этом не буду чувствовать никаких угрызений совести
– ты знаешь это сама. В конце концов, я могу найти тебе замену,
будь уверена. В Юльхоре мало людей, которые могут мне отказать.
Но в то же время, я могу стать твоим последним пристанищем. Я
приму тебя и никогда – ты слышишь? – никогда не попрекну прошлым.
Так что смотри: тебе выбирать.
Значит, Сергей и в самом деле подыскал ей замену. Она об этом
что-то уже слышала. Слышала о какой-то парикмахерше из центрального
Дома быта. Какая-то двадцатилетняя блондиночка с огромными сиськами.
Как он мог, черт его возьми, как он мог; да ведь ее имело полпоселка!
В ее щель, наверное, КАМАЗом можно заезжать! Вот сволочь! Блядь,
настоящая сволочь!! Шлюха! Шлюха!! Пес, словно угадывая ее настроение,
поднялся с пола и тоскливо взвизгнул. Время: Туза надо было выгуливать.
Она накинула на себя черный твидовый кардиган и, захлопнув дверь,
быстро сбежала по лестнице. Почти машинально, ни о чем не задумываясь,
она дошла да детской площадки, где обычно выгуливала пса. Ее всю
трясло от злости.
В ту пятницу на детской площадке и произошло ее знакомство с Семеном
Вахромеевым. Беря из его рук бутылку водки, она отметила про себя
контраст между его более чем кротким выражением лица и наглой
развязностью поведения. Отдавая бутылку, она ему улыбнулась. Стало
гораздо легче, напряжение спало.
Он назвался Семеном. Она зачем-то соврала – Наталья. Сказала,
но тут же поправилась: нет, вру: Аля. Так Наталья или Аля? Аля,
правда. Хотя какая, в сущности, разница, малыш?
Малыш - ему понравилось, как она его назвала, и его лицо расплылось
в улыбке. У него красивый рот, черт возьми. И серые глаза. Похоже,
сам он не имеет об этом никакого понятия.
По очереди отглатывая, они допили бутылку. Он пытался приобнять
ее за талию, это получалось у него как-то неловко и смешно. Ты
в каком классе учишься, Семен? Она спрашивала и, не дождавшись
ответа, тут же начинала хохотать, прочитав в его глазах обиду.
Семен серьезно отвечал, что работает. Но где работает, он ей в
тот вечер так и не раскрылся.
Вечеринка продолжилась в ее квартире. Тут же, в коридоре, он навалился
на нее и попытался поцеловать. Аля громко смеялась, потом включила
магнитофон и стала посреди комнаты танцевать под самую модную
песню сезона. У нее неплохо получалось.
Семена стало тошнить, он побледнел и побежал в туалет. Аля слышала,
как его там выворачивает наизнанку. Вернулся он все еще бледным.
Она успокоила его – все нормально, не переживай ты так из-за пустяков.
Песня закончилась и, усталая, Аля плюхнулась на диван. Семен подошел
к ней и сел рядом. Я тебя хочу, сказал он и протянул к ней руку.
Ты шутишь, ребенок, сказала она, но уже не верила своим словам.
Рука прошмыгнула к ней под кофточку и стала поглаживать грудь.
Она сняла кофточку, сняла не поддававшиеся, как-то по-мокрому
прилипшие к телу джинсы. Поцелуй вот сюда, сказала она ему. Он
поцеловал. Потом сказал – ты такая, ты такая, ты такая… И никак
не мог найти подходящего слова.
В этот момент затрещал телефон. Аля вскочила с дивана. Нет, вы
не туда попали, - в коридоре темно и душно. В углу над дверью
висит паутина. Я вам еще раз повторяю, это не библиотека, вы ошиблись
номером. Кинула трубку на рычаг и пошла в ванную. Смывая с лица
косметику, она подумала, что за последнюю неделю уже в четвертый
раз отвечает какому-то мужскому, чуть-чуть с хрипотцой, баритону,
что это не библиотека, а частная квартира. В чем здесь дело? Может,
над ней подшучивают? Выключая в ванной свет, она решила завтра
с утра сходить в центральный Дом быта посмотреть на эту сучку.
Когда она вернулась, Семен Вахромеев мерно посапывал на ее диване.
Аля накрыла его клетчатым пледом и ушла спать в другую комнату.
За окном в вечерних сумерках блуждали редкие люди. Кто-то возвращался
с поздней работы, кто-то бежал в магазин за очередной бутылкой,
а кто-то просто выгуливал собаку.
Здесь: барышни не идут
На следующий день я долго и упорно работаю – изучаю картинки.
Еще я хожу курить и думаю о том, что у меня нет ни одного носового
платка. Совсем я потерялся в этом мире, как же так, я вас спрашиваю,
нет у меня ни одного носового платка. А платок – он ведь очень
нужен человеку, платком вытирают нос, если в носу слякоть, как
у меня сейчас.
Для меня самое сложное на работе - делать вид, что ты очень занят.
Здесь все такой вид делают, а я не могу - переигрываю, неубедительно
получается. Иногда приходится ловить подозрительный взгляд, который
тебя изучает, проникнуть хочет в твою суть. Какую еще суть? Нет
никакой сути у меня. Я такой, каким вы меня видите, - хочется
крикнуть. Но кому кричать? В пустоту? Подозрительным глазам кричать?
Приходится сдерживаться.
И весь такой сдержанный, да к тому же без носового платка выхожу
в шесть часов вечера на улицу. Трусливо озираясь, покидаю свое
рабочее место. Без пятнадцати семь у меня встреча со Светой и
ее подружкой Репкиной. Мы пойдем в театр и будем там сидеть в
зале при выключенном свете.
На месте встречи я оказываюсь уже через десять минут. Ждать еще
очень долго. Возле выхода метро кучкуются люди. Много людей. Толпа.
Я тоже часть этой толпы. У меня теперь есть только одна обязанность
– стоять здесь. И я стою, мерзну. И как назло – нет носового платка,
шмыгаешь каждую минуту носом. Время течет очень медленно. И все
же, я оказываюсь терпеливее, чем это кажется поначалу.
Я честно достаиваю свой срок. Барышни не идут. В театре начался
спектакль. Ради чего я здесь мерзну? Я уже был в театре. Целых
два раза. Мне не понравилось. Один раз я даже участвовал в спектакле
– играл морковку. Не ахти какая роль, но это еще куда ни шло:
ты сам участвуешь, примеряешь на себя чужую жизнь – хотя бы и
морковкину. От этого, скажу я вам, можно получать удовольствие.
Но смотреть, как получают удовольствие другие – неинтересно. Это
как присутствовать на званом обеде в качестве официанта, к этому
привыкнуть еще надо.
Светы и Репкиной все нет. Зато есть время, предполагающее лирическое
отступление. В общем – как я был морковкой. Когда-то давным-давно
мне было пять лет, и я жил с родителями в заполярном поселке Юльхор.
Отец работал на шахте, мать – в детдоме медсестрой. Я ходил в
детский сад. А в воркутинских детсадах, к вашему сведению, были
специальные группы – в них детей на ночь оставляли. Почти у всех
отцы хотя бы раз в неделю в ночную работают (смена такая), а если
и мать в ночь уходит? Вот для этого и существовала в детском саду
ночная группа. А что делать кибальчишам в ночной группе? Правильно
– рыдать в подушку под строгим присмотром нянечки.
Но в тот раз нянечка у нас новенькая была. Молоденькая (как теперь
я ее домысливаю) девушка, только-только после восьмого класса.
В общем, не боялись мы ее. Поэтому ревели не в подушку, а в голос.
Помню, сидим мы, малышня, на своих постелях (свет, понятное дело,
нам потушили) и ревем в голос – каждый о своем, аж железные пружины
под матрасами скрипят. Ревем, стараемся. Но и у молоденьких нянечек
нервы не железные. Начала она тут нас стращать. А чем устрашить
можно пятилетнего ребенка? Волков мы почему-то не боялись, кто
такой Бармалей – тоже не знали. Придумала она такое – кто реветь
не перестанет, тот голышом будет читать стихотворение. Я больше
всех стихотворений той ночью прочитал.
А на следующий день у нас был утренник, праздничный концерт для
родителей - уж не знаю по какому поводу. Мы пели, плясали, читали
стихи. Кульминацией праздника была инсценировка. Подробностей
я уже не помню. Помню только такие слова там были – «Ты, пузатый
кабачок, полезай-ка в кузовок, не ленись, не зевай, а в корзину
полезай». Осенняя страда, в общем. Колхозники собирают урожай.
По кругу, держа в руках пластмассовое колесо (такое, знаете ли,
бывает колесо, которое нужно набрасывать на далеко стоящую пластмассовую
же палку, игра вроде такая), - по кругу с колесом, хромая на обе
ноженьки, скакал мальчик Вася. Держа его за рубашку, скакала за
ним девочка Маша. По периметру скакания Васи и Маши сидели на
корточках другие дети. У Васи козырная роль – водитель сельскохозяйственной
машины (комбайна, что ли?), у Маши тоже ничего – работница труда.
Ну, а нам всем не очень повезло – овощами мы были. Пропев свой
куплет, Маша стала брать за шкирку каждый овощ, овощ пел что-нибудь
в ответ, вставал в хвост шеренги и тоже скакал по кругу. Я был
морковкой. Было интересно.
Уже начало восьмого. Из выхода метро появляются Света и рядом
с нею незнакомая мне девушка – Репкина, видимо. Они еще не подошли
ко мне (озираются, переговариваясь о чем-то своем, ищут меня глазами),
но я уже вижу, что они пьяны вдребадан. То есть буквально – стоят
еле-еле на ногах, шатаются, как только сюда приехали – непонятно.
Окликаю их – увидели, подходят, поддерживая друг друга, хохочут.
Я быстро переигрываю ситуацию. Ну, что же вы так, - импровизирую.
– На спектакль мы теперь точно не попадем, да и не пустят вас
на спектакль. Пойдемте лучше куда-нибудь посидим, раз так получилось.
Я знаю, что у Светы есть с собой немного денег, на «посидеть в
кафе» хватит. Мне очень неохота идти в театр, к тому же, с самого
утра хочется выпить. Увидев двух пьяных барышень, одна из которых
моя жена, выпить захотелось еще больше. Зря, знаю же – ничем хорошим
это закончится не может.
Девушки лепечут что-то в ответ. Я принимаю их лепет за согласие.
Беру под руки обеих и веду в ближайшее кафе. Это кафе я уже давно
приметил – значит, еще не зная о возможных путях к отступлению,
настраивал себя должным образом, надеялся, то есть, на подобный
исход.
Приходим в кафе. Света мне всю дорогу задает какой-то бессмысленный
вопрос и все время как-то по-идиотски хохочет. Ты знаешь, кто
это? - спрашивает она меня. Да знаю, - отвечаю. Нет, не знаешь,
- говорит она, - это моя сестра. Ну, сестра и сестра, - киваю
в ответ. В душе начинаются неприятные трепыхания, чувствую приближение
грозы. Честно говоря, к этому ведь все и шло.
Не успеваем мы занять дальний столик, как Репкина говорит – ой,
а что мы сюда пришли? И еще говорит – мне нужно идти, меня ждет
Гога.
Про этого Гогу я много наслышан. Когда Света работала в одном
малотиражном журнале (что-то там про кафель или унитазы – такой
вот специализированный журнальчик), она рассказывала мне, что
их редакцию постоянно терроризировал какой-то грузин. Он жених
одной их коллеги (тогда-то я и услышал впервые фамилию Репкиной),
но общаться со своей невестой по телефону ему недостаточно – узнав,
что Репкина пошла, например, на обед, он тут же перезванивает
в отдел, чтобы спросить – а правда ли, что Репкина на обед пошла?
Патологический ревнивец, в общем.
И сейчас Репкина говорит – меня ждет Гога, и направляется к выходу
из кафе. Я смотрю на Свету, ее зрачки совсем в тумане, оставить
ее здесь одну – страшно, как и отпустить в одиночестве Репкину
– не дойдет ведь, бедняжка, свалится где-нибудь на полпути. А
тут еще музыка заиграла – и громко так, ничего вокруг не слышно.
Наклоняюсь к Светлане и кричу ей в самое ухо – пойдем отсюда,
Репкину проводим до театра и – домой. Света пьяно мне кивает,
но с места не двигается. Вот так попал, думаю. Снова нагибаюсь
и кричу – посиди здесь, никуда не выходи, я сейчас приду. Выбегаю
на улицу и догоняю Репкину, которая, не успев отойти и десяти
шагов от кафе, успела заблудиться и теперь пристает к прохожим
с расспросами. Подхватываю ее под локоток. Не беспокойтесь, все
нормально – говорю ребятам, а у самого в голове – лишь бы Светка
не успела заметить нашего отсутствия, господи, помоги. Студентики
недоуменно на меня смотрят, но видят – вроде как знакомый, - в
общем, решают не ввязываться.
Говорю Репкиной – я тебя провожу до театра.
Репкина начинает хохотать. Виснет на мне всем телом, боится упасть.
Ее прикосновения мне не очень приятны, это чужие прикосновения,
и я их боюсь. Так я ее и тащу в сторону театра. У тебя курить
есть, - вдруг перестает смеяться Репкина. Не курю я, - зачем-то
вру ей, а сам думаю – вот еще в театр нас не пропустят, спектакль-то
уже полчаса как идет. Ну, на хрен, не дай бог! Хотя бы в вестибюль
пропустили, а то ведь брошу ее возле дверей и уйду. Что мне, в
самом деле, до Репкиной? Репкиных много на свете, а Светочка моя
одна. Что с ней случится в кафе, я же себе этого никогда не прощу.
Возле дверей театра Репкина бросает меня и начинает куда-то бежать.
Я за ней. Видно, периметр здания ей хорошо знаком. И правда –
добежав до служебной входа, она начинает звонить и колошматить
в дверь маленькими кулачками. Я подбегаю, у меня сбито дыхание
– а Репкина уже спорит с толстой вахтершей – немедленно, мол,
позовите такого-то. Вахтерша даже не пытается что-то возразить
– видит, это бессмысленно. Сейчас, говорит она, дверь закрывается,
и мы остаемся ждать. Стоим с Репкиной на расстоянии двух шагов,
молчим по-дурацки совсем. Я вижу, что она старается сосредоточиться,
делает подряд несколько глубоких вдохов, готовиться ко встрече
со своим Гогой, который, конечно, по головке ее не погладит за
то, что прямо во время спектакля явилась к нему пьяная, расхристанная.
Ждать дальше я не могу, у меня Света там одна, даже начинаю что-то
бурчать – мол, надо мне идти, ты тут сама как-нибудь. В это время
дверь открывается, выходит молодой кавказец. Обычный такой, как
будто только что с рынка. Накрашен он, загримирован то есть, а
на плечах – черная накидка. Репкина тут же к нему на шею – и давай
реветь. Что случилось? Гога обнимает ее и на меня так недобро
смотрит. Понимаю, Репкина мне сейчас не поможет и начинаю почему-то
оправдываться – договорились… а сами вон… ну, ладно, в другой
раз как-нибудь… А твоя Света где? – он меня спрашивает. А я не
понимаю, зачем ему моя Света. Там, показываю рукой в сторону кафе.
Где там, спрашивает он и ко мне подходит. Я думаю, как бы объяснить
ему, непонятливому, где она – ну, чтобы поприличнее как-нибудь
объяснить, а то ведь подумает, что мы алкаши какие-нибудь. И тут
чувствую удар по скуле. Стою и ничего не вижу – серый туман перед
глазами, и серебряные пятнышки в разные стороны разбегаются. Очки
у меня слетели. Иди отсюда – Гога говорит, и дверь закрывает служебную.
Куда идти-то? Я без очков ничего не вижу. У меня один глаз в детстве
подбит, хе-хе, было дело, а второй минус шесть (миопия) – вот
и представьте. В общем, нагибаюсь, шарю асфальт, а сам чувствую
– на руки кровь капает. Одной рукой лицо трогаю – Гога моими же
очками мне щеку распорол. Вот ведь гад! Значит и с очками не все
в порядке, думаю. И точно. Нашарил их – помятые, левой линзы нет,
только правая. А у меня правый глаз не видит ничего. Диагноз свой
я наизусть знаю – глубокая посттравматическая афакия, макулодистрофия,
периферическая дистрофия сетчатки. Я без очков даже до кафе не
дойду, а тут еще кровь хлещет. И платка носового, как назло нет!
Закрыл рану ладошкой и иду в сторону кафе. Огни какие-то – справа,
слева, - высвечиваются из темноты, яркими пятнами, лучистыми звездами
проступают из мрака. По этим огням и ориентируюсь. Иду еще дальше,
выхожу к проезжей части – здесь поток огней. Прямо какая-то китайская
река в дни народных гуляний. Сотни разноцветных фонариков плывут
по реке. Мне кажется, что я даже слышу журчание воды на перекатах.
В голове проясняется постепенно. И первая мысль – пьяный был бы,
не так было бы обидно. Ладонь совсем липкая стала, лицо тоже,
значит, все в крови. И к кому я, такой красивый, подойду, чтобы
спросить, как дойти до кафе?
И тут вдруг слышу Светкин голос откуда-то справа. Протяжно так,
громко – Дени-и-и-и-с! Как в кино. Светка подбегает ко мне – что
с тобой, Денисочка, что случилось, родненький – и давай рыдать.
Я ее успокаиваю, а сам думаю – хорошо, как же хорошо, что она
в кафе сидеть не стала, а вышла на улицу, а то ведь я бы до кафе
сам не добрался бы. Пустяки, говорю, все нормально, дай платок.
Она мне платок дает, а у самой руки дрожат – что произошло, что
случилось? Чепуха, чепуха, - повторяю несколько раз, - пойдем
в метро, домой ехать надо.
Спускаемся в метро. На эскалаторе Света меня немного в порядок
приводит – платочек послюнявит и вытирает, послюнявит снова, поплюет,
и вытирает. В общем, более-менее кровь вытерла. А в переходе тетка
очки продает, магазин-палатка для очкариков. Ну, везет же, думаю.
У тебя деньги есть, - спрашиваю у Светки, хотя и так знаю, что
есть, - давай очки купим, а то как слепой я. Она деньги достает,
а я у продавщицы спрашиваю – минус шесть есть? Есть, отвечает.
Я даже примерять не стал, деньги сразу протягиваю.
Купили очки. Надел их, и сразу вроде легче стало, уже не такой
беззащитный – сразу себя взрослым человеком почувствовал, кормильцем
семьи, мужчиной почему-то. А Света тут на меня насела – что случилось-то.
Весь алкоголь из нее вроде вышел. Да грузин этот, говорю, ваш
– совсем он какой-то больной, психический, говорю.
Зря, зря я это сказал. Лицо ее даже не побледнело, а посерело
как-то, рот скривился – ну, говорит, я ему сейчас покажу, убью
его, говорит, на хрен – и повернулась к эскалатору, пошла на выход
из метро. Я – за ней. Ты что, совсем с ума уже? Спектакль у него
идет, говорю. Она меня не слушает – серьезная вся такая, только
бровь подергивается смешно.
Наверх поднимаемся. Света спрашивает – где этот театр их находится?
Не скажу, - говорю, - поехали домой, - и еще говорю, - хватит
уже ерундой заниматься. Скажи, - говорит, - сейчас же скажи. И
в глазах злость такая, словно я чем-то обидел ее. Хватит, - прошу,
- Светочка, хватит, - говорю, - поедем, пожалуйста, домой. Хорошо,
поедем, - отвечает, - только сначала скажи, где находится театр.
И тут я вдруг понимаю, что она ни капельки не отрезвела, что пьяна
она так же, как и была, только теперь у нее агрессивная стадия
началась, и надо ее как-то успокоить. Но как ее успокоишь тут?
Давай, - говорю ей, - сейчас домой поедем, а завтра я тебе покажу,
где находится театр, честное слово. Нет, не годится, - отвечает,
- раз так… Мобильный телефон достает из сумочки, набирает номер
какой-то. Ты кому звонишь это? – у меня уже терпение лопнуло,
- ты Репкиной своей звонишь, - кричу, - какого хрена ты ей звонишь
сейчас, - кричу, - подумай своей головой, - кричу, - ну что ты
ей скажешь? И вырываю телефон из ее рук. Света не успокаивается.
Отдай телефон, я ей скажу, - кричит в голос, - я ей все скажу,
скажу, что убью их обоих, - кричит.
Мы стоим в подземном переходе, люди на нас оборачиваются, но нам
уже давно нет до них никакого дела. Сначала я еще боюсь, что кто-нибудь
из прохожих вызовет милицию, но быстро забываю и про милицию,
и про прохожих.
Оборачиваюсь и иду к эскалатору. Света за мной. Вроде успокоилась.
За руку ее беру, она слушается. Спускаемся снова вниз, и вдруг
чувствую – рука чья-то в карман куртки залезла. Хватаю руку –
а это Света: телефон свой у меня решила украсть. Не получилось
– она снова в крик: отдай телефон, я им все скажу! Наивный, надеялся,
что все закончилось. Пытаюсь негромко и просто с ней поговорить:
ну, зачем тебе телефон, ты же пьяная сейчас. Ну, позвонишь ты
своей Репкиной, что ты ей скажешь, она ведь сама ничего не понимает.
Но это истерика, здесь мои доводы не работают, Светлана словно
не слышит, что я ей говорю. Рот ее скривился в гримасу, кулачки
сжались. Последний раз говорю, отдай мне мой телефон – сей-час-же!
Не говорит, а рычит уже. Краем глаза вижу: продавщица очков засуетилась,
смотрит на нас с подозрением. И как-то мне все равно стало. Достаю
телефон и говорю – телефон твой отдать? Получи – и со всего маху
его об пол – банц! Монитор сразу же треснул, но мне уже мало,
меня не остановить – пяткой ботинка еще раз по нему, и еще, и
еще, и еще. В крошево. Света нагнулась – поднимает останки телефона.
Я тебя ненавижу, - шипит на меня, - я тебя ненавижу, козел. Собрала
все и снова пошла на выход – в который раз уже. Я остаюсь внизу.
Дышу громко, тяжело. Продавщица смотрит на меня, как будто жалко
ей, что все так быстро закончилось.
Ах, почему же это она вдрызг пьяна, а не я! Ведь сел бы сейчас
в поезд и поехал бы домой – а там как хотите. Отдышался, злость
прошла и уже знаю – надо подниматься наверх, в таком состоянии
я ее оставить одну не могу.
Долго ищу ее, нахожу не сразу. Она сидит на остановке. Холодно.
Подхожу к ней – поедем домой, Светочка. Не слышит, разбитый телефон
в ладошках держит. Потом на меня глаза поднимает – говорит: это
же мой телефон был, я тебя ненавижу, ты мне всю жизнь испортил.
Сажусь рядом на железную холодную скамью. Пойдем, - говорю, -
прогуляемся. Сумасшествие в ее глазах. А ты меня потом в театр
отведешь, - спрашивает. Отведу, - отвечаю. Она – не обмани.
Встали, идем. Вдалеке светит огнями дом на Набережной, Трифонов
про него роман написал. Но я другую вещь у него люблю – «Старика».
Причем здесь этот «Старик»? Почему не живу я так, как другие живут,
почему? Семья, работа, дети – тихое мещанское счастье. Я ведь
– честное слово! – хочу так жить, только так и хочу. А выходит
какая-то безнадега. Книги какие-то – я же трачу на них почти все
свои свободные деньги. Что мне от книг этих, что мне Трифонов
этот? Хотя, Трифонов, признаться не самый любимый мой автор. Я
Распутина люблю и Шукшина. Люблю Василия Белова и Астафьева. Я
по деревне тоскую, по деду своему. Дед меня любил очень, мне теперь
кажется, что больше других внуков своих любил. Даже не знаю, как
так получилось – вырос в шахтерском поселке, а самые сильные воспоминания
детства связаны с деревней, с дедом. Помню, как пилили с ним дрова
двуручной пилой. Пилим не спеша, а дед мне про войну рассказывает.
И понимаю я, что важные для себя вещи он мне говорит. Рассказывает
то, что никому другому, кроме меня, ребенка, рассказать не может,
что в груди своей носит, рассказывает то, что мучает его, и как
будто избавляется от своих мучений, делясь со мною воспоминаниями.
Я часто думаю о нем, особенно сейчас, в последние месяцы – даже
не знаю почему. Жалею, что не спросил его о многом. А теперь уже
и не у кого спросить.
Света отвлекает меня – все, пойдем в театр, я их убью.
Да чтоб да вы да сдохли все!
Там: по радио передают прогноз погоды
Человечество состарилось в тот момент, когда случилась первая
буржуазная революция. Кризис среднего возраста был страшен – раздираемый
внутренними противоречиями дух человеческий метался по вселенной
разума в поисках выхода, но выхода не было. Итогом нескольких
веков, ставших самыми кровавыми веками в истории, явилось осознание
человечеством беспредельности (а, значит, в какой-то мере и бесцельности)
своего пути. Жизнь продолжается после любой – даже самой кровавой
– трагедии. С этим можно жить. И живут, и растут, и пахнут, и
даже омываются волнами. Маленькие, разрозненные, размежеванные
между собой люди, травы в полях, душица, чистотел, клевер, горные
реки и ручьи, а в них маленькие камни-голыши, иссиня-черные, как
переспелые сливы, и снежно-белые, как мизинцы младенцев, а еще
пепельные, матовые, в прожилках, темно-каштановые – все с серебристым
свечением в прозрачной воде.
Сухе Тандыев был одним из этих маленьких людей, чья тихая, не
заметная постороннему глазу жизнь протекает на периферии обитаемого
мира. Он родился в тундре, сразу после рождения был отдан в интернат
поселка Юльхор, потом остался дворником и плотником (эдаким мужичком
«сделай-принеси») при этом же интернате – вот и вся его тридцатипятилетняя
жизнь. По-своему страдал, по-своему переживал и радовался, – конечно,
не без этого. Но дело в том, что ни его страдания, ни его радости
не касались никого, кроме него самого. Мир был безжалостен к нему,
но сам Сухе Тандыев об этом мог только догадываться. Ко дню своего
выпуска из интерната, случившегося много лет тому назад, он уже
знал: все, что он каждый день может видеть в телевизионных новостях,
не имеет к нему ни малейшего отношения, это никогда не вторгнется
в его жизнь, не заденет даже краешком по касательной траектории.
Он уже до своего рождения выпал из того механизма, который вот
уже несколько тысячелетий крутил свои моховики и шестеренки, не
взирая ни на какие катаклизмы и революции. К утру этого ноябрьского
понедельника он уже давно ни в чем не сомневался, ничего не боялся
и ничего не ждал. Было пять часов утра. Он пил из жестяной банки
кофе, черный растворимый кофе, сидя в своей комнате, заставленной
старой, много лет назад списанной мебелью. Ободранные обои были
прикрыты ковриком. В прошлом году этот ковер, лежавший на полу
в красном уголке, Сухе выклянчил у директора интерната. На тумбочке
лежали: крупный осколок зеркала, кусок мыла и бритвенный станок.
Все верхние углы помещения заросли паутиной, свисающей водорослями
с потолка. Любой человек, случайно забредший сюда, тут же постановил
бы, что жить здесь никак невозможно, это против естества человеческого,
против его хозяйственной натуры. Но в разрез с этим мнением Сухе
Тандыев здесь обитал, находя свое жилище для этого весьма пригодным.
Он сидел за столом, покрытым изрезанной в нескольких местах клеенкой,
и пил кофе. Ковер скрывал ободранную стену. В замысловатом узоре
ковра ему виделись улыбающиеся мордочки чертей, какие-то рыбки
и обезьяны. Он уже давно выделил из общего рисунка ковра эти странные
компоненты, и теперь эти чертики, эти рыбки и обезьянки казались
ему более отчетливыми, нежели бутоны роз и переплетенные стебли,
тоже изображенные на ковре.
Послышался стук, стучали в стенку. Соседнюю комнату недавно заселили.
Директор интерната Месхиев часть комнат в подвальном этаже сдавал
людям с улицы, сдал он под коммерческое проживание, как это именовалось
официально, и комнату, соседствующую с тандыевской. Со своими
новыми соседями Сухе познакомится еще не успел. По утрам он уже
несколько раз слышал этот отчетливый стук в стену, но внимания
этому не придавал – мало ли, зачем могут стучать в пять часов
утра. Он допил кофе и поставил жестяную банку, заменяющую ему
кружку, на видавший виды стол.
Сухе поднялся с табуретки и подошел к маленькому окошку, которое
располагалось почти под самым потолком. Он открыл форточку и высунул
на улицу руку, чтобы узнать температуру воздуха – ни радио, ни
заоконного градусника в коморке Сухе не было. Температура показалась
подходящей; впрочем, это не имело никакого значения, потому что
Сухе в любом случае пришлось бы идти на улицу убирать свой участок.
Он снял с гвоздя куртку и надел ее. Где-то в углу, под кроватью,
застрекотал сверчок. Сухе выключил свет и вышел из комнаты.
Ночная мгла еще не окончательно рассеялась. Улица была пустынна
и тиха. Серая муть предрассветного часа вползала в душу Сухе,
он стал задумчив и тревожен. Открыв собственным ключом дворницкую,
он выкатил тачку, на которой возил мусор, взял метлу и совковую
лопату. Э-эх…
Можно и закурить. Сухе Тандыев прислонился к стене и стал сладко
курить. В прошлый четверг его снова вызывали в милицию. Где, когда,
кто – он уже устал отвечать на все эти бесконечные вопросы. И
так ославили на всю округу – людям стыдно в глаза смотреть, -
а теперь еще и спокойно жить не дадут. Кто-то наверху все решил
за него и ему остается одно – терпеть. Терпеть во что бы то ни
стало, терпеть изо всех сил. А выпадет снег, он пойдет в тундру,
дары духам принесет, попросит прощения у воды и огня. И все наладится,
все пойдет своим порядком, и каждый в свой черед уплывет на подземной
лодке в страну вечного лета. Лишь бы снег поскорей выпал.
С тех пор, как он со своими товарищами обнаружил возле Сейды полуживую
девушку, Сухе сильно изменился, словно черная кошка ему жизнь
перебежала. Мысли постоянно путались, сбиваясь с одного на другое.
Сон нарушился – стал нервным и чутким к любому шороху. Стали тревожить
какие-то голоса и постукивания. Поначалу Сухе приписывал это сглазу
или порче, но поселковый ведун Бангладеш, к которому он ходил
дня четыре тому назад, это опроверг. Он водил вокруг Сухе Тандыева
зажженной свечой, капал на ладони воск, обводил голову монетой,
нанизанной на шелковую нить, - никакой порчи обнаружено не было.
Это простуда, сказал Бангладеш, простуда и плохое питание. От
денег он отказался, сославшись на то, что помочь здесь не в силах,
а, значит, не имеет права и брать плату. Сухе настаивать не стал.
Докурив свою «приму», он бросил окурок на землю и затоптал его.
На тележку погрузил лопату и метлу и покатил ее к ограде интернатского
сада, откуда обычно начинал утреннюю уборку. Его движения были
медленны и основательны, шаг короток, но тверд. Откуда-то услышал
крик: человек, постой, что ли.
От деревьев отделилась тень и направилась к нему. Сухе остановился
и стал выжидать. Когда тень поравнялась с ним, селькуп узнал в
ней Коровина, грешника.
Коровин спросил курить. Сухе протянул ему пачку «Примы», тот достал
сигарету и вернул пачку хозяину.
В поселке говорили, что Коровин больной. Может, оно и так. Но
Сухе не боится заразы, потому что он честный человек.
Закурив, Коровин скрылся в зарослях кустарника. И Сухе вновь остался
один на один со своим молчанием.
Коровин возвращался домой с ночных посиделок у Бангладеша. Жил
он за Оврагом, на Пилораме, в собственном доме с мышами внутри
и с небольшим палисадником снаружи. По утрам питался жареным картофелем,
и телевизору предпочитал радио. Коровин прекрасно знал, что в
Юльхоре его считают чудаком, а некоторые даже за глаза называют
безмозглым неудачником. Но это неправда, нет, неправда. Просто
у него жизнь трудная была, и людям перед ним неудобно, наверное.
По дороге домой он пытался восстановить их ночной разговор с Бангладешем,
чтобы записать его в толстую амбарную книгу, в которую по привычке
заносил – без всякого умысла – суть своих частых ночных разговоров
с великаном. Обычно результат всех этих разговоров сводился к
одному: мир, в котором мы живем, окончательно прогнил; человечество
устало от этого мира, устало от постоянного присутствия в нем.
Но есть ли выход? Выход есть, по крайней мере, об этом со своей
лежанки вещал Бангладеш. Он восседал на ней, как гора, как гигантский
Будда, по-турецки сложив ноги крестом. Веки его были прикрыты,
голос тих и прерывист, словно шелест травы. Изредка отглатывая
из кружки чай, Бангладеш говорил о том, что настала пора придумывать
новый мир. Этот процесс придумывания будет долгим и нудным, но
неминуемым. Он обязателен, и в скором времени это осознают все.
Так говорил Бангладеш, бедное чудовище, оплывшее жиром.
Дойдя до Оврага, Коровин вдруг вспомнил, что забыл у Бангладеша
свою кепку. Он даже хихикнул и подпрыгнул на месте от удивления
– и как это такое с ним могло произойти? Память у него была отменная
– этого не отнимешь. Легкий ветерок прошелся по его лысеющей голове.
Его знобило. Его часто знобило – в последнее время чуть ли не
каждый день. А ведь все-таки интересно, наверное, было бы побыть
женщиной, хоть на немного, хоть на пять самых коротеньких минут,
подумал он, спускаясь по тропинке в Овраг. Чешется в пятке, но
там не достать. Бангладеш говорит, что опыт не дает нам представления
о сущности вещей, а только доказывает их существование. Суть вещи
не исчерпывается тем, что явлено нашим глазам и ушам. Истина –
это не всегда то, что есть в вещи, говорит Бангладеш, но и то,
что стоит за вещью. Ах, не забыть бы этого. За вещью, именно за.
Истина – это всего лишь тень от вещей и явлений. Смысл не исчерпывается
опытом, он умозрителен. Этого нельзя забывать, ни в коем случае
нельзя забывать. А все-таки без кепки уже прохладно. К тому же,
у него лысеющий, наполовину оголенный лоб. И жар, который плавит
его изнутри, жар, к которому невозможно привыкнуть.
Наконец из-за поворота показались и первые, окраинные, дома Пилорамы.
Дом Сульшинских, дом Воровичей, а вон тот, третий, несколько покосившийся
и с уже давно облезшей краской, его, Коровина, родимый, так сказать,
отчий, дом, пристанище его вечное до конца времен, до страшного,
ужасающего конца, думать о котором не хочется, а значит, и не
следует думать. Щелкнув калиткой, он вошел в палисадник. Там,
в углу, растет странный кустарник – волчья ягода. На одну из веток
этого кустарника он вешает ключ от дома, когда уходит. Наверное,
там, в корнях, зазимовало множество жуков.
Пустой молчаливый дом встречает Коровина знакомым запахом – древесным,
медовым, немножко кисловато-сладким. Третья половица в коридоре,
как и положено ей, протяжно скрипит, чуть прогибаясь под тяжестью
его ноги. На кухне Коровин ставит на плиту чайник, включает негромко
радио. Пока чайник медленно закипает, он достает амбарную книгу
и садится за кухонный стол. «Я есмь» - неторопливо выводит он.
Потом снова и снова: «Я есмь, я есмь, я есмь, я есмь, я есмь».
Чайник на плите начинает посвистывать. Коровин встает из-за стола
и идет выключать плиту. По радио передают прогноз погоды. Коровин
смотрит в окно, там уже окончательно рассвело. Волна усталости
накатывается на него – бессонная ночь не прошла даром. Внутри
какая-то невероятная пустота, как будто ты – глиняная копилка,
и в тебя можно складывать различные вещицы, житейские безделушки
– мелкие монеты, ложки, вилки, обертки от конфет и старые, высохшие,
непригодные стержни для авторучек. Коровин стоит на кухне и чего-то
ждет, а чего – и сам не знает. За окном, по асфальтированной дороге
идет призрак – молодая девушка с неприбранными волосами, в белом
летнем платье, которое, словно мокрое, липнет к ее телу, просвечивается.
Но стоит только моргнуть – и призрак исчезает. По радио передают
сигналы точного времени – пи, пи, пи, пи, пи, пи-и-и. Семь часов
утра, вы слушаете «Радио России».
Хочется отрубить себе палец на руке, чтобы поверить, что все это
на самом деле происходит. Но Коровин этого не делает и не сделает
этого никогда. Стоит ли, думает он, стоит ли сегодня идти на рынок?
Отечество в опасности, отечество в опасности, семь часов утра.
Ужасно все болит, особенно там, где болячка. Нужно ложиться спать.
Бангладеш говорит, ему надо идти в больницу. Он устал, он очень
устал. Много-много лет назад он любил читать слова, записанные
в столбик. Он идет в комнату и ложится на диван, не раздеваясь.
Это называется поэзия. Тот блажен, кто умирает. Выключил ли он
плиту? Тот блажен, кто обречен. Нужно купить два килограмма лука.
И еще что-нибудь из сладкого. Коровин любил сладкое. Особенно
конфеты по названию «Коровка». Откуда эти слова. Уже никогда не
вспомнить.
В миг, когда он все теряет, Все приобретает он.
Еще надо купить лекарство от кашля. В горле першит.
………………………………………………………………………………………………………………………….
Продолжение следует.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

