Via Fati. Часть 1. Глава 23. Перо ангела
Глава, в известном смысле, не связанная с предыдущими. Из эмпирей в терновый куст или поэт и критик — примерно такие подзаголовки можно ей дать.
О прочих крайностях поэтического творчества читайте в
интервью с автором.
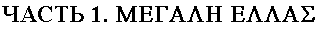 |
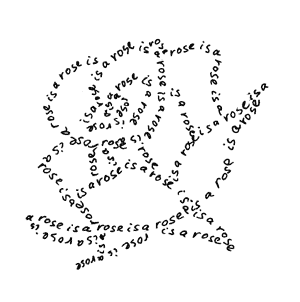 |
Почему на этих людях зиждется моя вселенная? Что мне до них теперь?
Опростившийся Стефан, опростившийся Ганс, опростившаяся
Лиза, и ускользающая, квазиирреальная, в нирване движения
пребывающая Кора, у нее, впрочем, всегда был особый статус... Что
отличает их от остальных смертных и что отличает меня от
них? И почему я все еще склонен считать себя поэтом, о Господи?
Они обычные люди, люди толпы, но сами они различают сотни оттенков
обычности, которые для меня давно слились в один ровный
скучный тон. Я почти перестал узнавать их в лицо, замечать их.
Тень и имя — вот что для меня сейчас человек. Юношей я попал
на фильм великого режиссера и был безмерно разочарован: на
экране перемещались живые, обычные актеры, которых я знал по
другим фильмам других режиссеров. Если он великий режиссер,—
не понимал я,— зачем ему актеры, зачем ему лица? Наслаивай
друг на друга разноцветные пятна, которым вовсе не
обязательно придавать конфигурацию человеческого тела, и заставляй их
перемещаться, играть, сливаться и разъединяться, рождаться и
умирать. Наложи на это вдохновенную музыку, и ты получишь
великий фильм. Потом я понял, что рассуждая подобным образом,
я поддаюсь болезни своего отца,. Чтобы изобразить цветное
пятно, пусть довольно нежного оттенка, и в самом деле
достаточно малярной кисти. Но я уже стремился к универсальности
более высокого порядка. Только живописи — цветовых пятен или
только музыки — увлекающего движения мне было уже мало, мне
хотелось, как минимум, того и другого одновременно. Этим
кончился для меня период априорного варварства.
Что же, друзья мои? Что же теперь? Не с вами ли вместе мечтали мы об
универсальности? Не теми ли самыми словами говорили о ней?
Более того, мы всегда и обо всем говорили теми же словами. И
слишком часто вы казались мне лучше и умнее меня, и я
многому от вас научился. Но теперь мне нечему больше учиться у
вас, и я не могу уже иной раз удержаться от соблазна обвинить
вас в убожестве. Что оторвало меня от вас и что будет вечно
к вам притягивать? Мало ли персон, напоминающих вас лицом
или манерами встречаю я на дорогах мира, не медлю с выводом:
«Глупцы!» и даже не останавливаюсь поговорить с ними. И с
вами я не стал бы теперь знакомиться и разговаривать, если бы,
случайным или необходимым образом, не был знаком уже давно.
Быть может, я обычный эгоист, я всегда любил только себя и никого,
кроме себя, во всех своих возрастах и во всех своих
ипостасях. И вас я люблю лишь потому, что в вас осталась навсегда
заключенной частица меня прежнего, уже в немалой степени мне
нынешнему чужого. Но не могу же я относиться без нежности к
себе, хотя бы и прежнему? К кому же мне тогда относиться с
нежностью?
А вы? Мы были одинаковы, и никто из нас не был лучше другого. Как
благодарен я вам за то, что вам хватило мужества выделить меня
из своего круга, выделить без отчужденья. Вы — свои, мы все
— свои. Пожалуй, я опять обольщаюсь. Вы, быть может, только
чуть менее чужие, чем все прочие. Если у меня есть
какие-нибудь враги, то вас я буду считать друзьями. Если вы —
друзья, то остальные — и правда, враги.
Рецензии на мою первую повесть обострили во мне исследовательский
нюх и позволили раз и навсегда произвести полную классификацию
тех, кто попытался сделаться моими врагами,— литературных
критиков и избавить себя от последующих раздумий на эту тему.
Определения в виде реальных или почти реальных цитат
хранятся у меня и сейчас. Вставляю в скобках свои комментарии.
1.) Критик-сексопатолог: «Автор, пишущий от первого лица, вернее,
личика женщины, скрывается под мужским именем. Между тем, мы
(О, эта умилительная привычка возвеличивать свое собственное
критиканское достоинство и прятать под безответственным и
бесполым (sic!) «мы» слабое бесплодное «я»!)
склонны подозревать, что автор — женщина, более того —
женщина безбрачная, настолько неубедительны повествования о
семейной жизни. Однако, мы воздержимся также и от обвинений в
стародевичестве, автор сладострастен, или, вернее,
сладострастна и при этом никакого интереса к мужчинам не испытывает.
Вывод напрашивается сам собой.» (Я всегда знал, что мы с
Барбарой — родственные души.)
2.) Критик-наставник: «Чему может научить думающего читателя
легковесное повествование о приключениях беспринципной
авантюристки? Вместо того, чтобы задуматься вместе с читателем о вечных
проблемах: о добре и зле, предназначении человека, смысле
жизни, автор отвлекает внимание читателя на предметы
малозначительные и даже вредные, вроде супружеских измен.» (Я тоже
всегда полагал, что адюльтер — штука чрезвычайно зловредная.)
3.) Критик-журналист: «Почему нас должны интересовать события,
происходившие в далеком прошлом, когда сама жизнь каждый день
преподносит нам все новые открытия, неожиданности, возможности.
Вместо того, чтобы помочь читателю осмыслить современность,
автор уводит его в псевдоисторические дебри и бросает там,
лишив всякой помощи». (Над этим стоит задуматься. Если я
—женщина, должна же я быть переменчивой: сегодня меня
интересует одно, завтра — другое.)
4.) Социальный критик: «Автор пытается потчевать нас (читай:
каннибалов-критиков) прокисшими сливками общества, жизнь простых
обычных людей, то есть нормальная человеческая жизнь его не
трогает. Конюхов, поваров, крестьян и ремесленников (также и
критиков, добавлю от себя) автор воспринимает как функции, а
не как живых людей.»
5.) Сентиментальный критик: «Автор — думающая машина, а не человек,
он не способен чувствовать, не способен любить». (Отчасти
верно, не люблю сентиментальных критиков, чувствую, что не
люблю!)
6.) Критик-символист, он же мистик: «Что, собственно, хотел сказать
автор своим донельзя реалистичным творением? Божественное
начало, содержащееся в каждом, даже самом грешном смертном в
обсуждаемой повести эманирует в никуда». (Уточняю:
божественное начало, содержащееся в критике-мистике, эманирует в
нетуда.)
7.) Критик-эмпирик: «Автор никогда не бывал во Франции XVIII-го
века, кто дал ему право писать о ней жанровую повесть? Писатель
должен руководствоваться только собственным опытом.» (Ах,
эмпирикам и в самом деле виднее, где и когда я бывал и чем и
когда мне руководствоваться. Как-то меня обвинили, что я
никогда не бывал в своем родном городе. Быть может...)
8.) Критик-нигилист (самая хищная порода критиков): «Повесть
бездарна до невозможности, болезненна и безграмотна, в ней нет
ничего, ради чего стоило бы рекомендовать ее читателю. Автор
невдохновенен, безграмотен и туп, лишен собственного лица и
стиля.» (Я не одинок: в добавление к Барбаре у меня появилась
еще одна родственная душа. Сам думаю про себя то же самое
целый день, после того, как отошлю рукопись издателю, потом
проходит.)
9.) Критик, рецензирующий эту книгу (смыкается с пунктами 7.) и
8.)): «Автор ничего не понимает в критиках.» (Вот-вот, Ахилл не
склонен гоняться за черепахами.)
10.) Критик — пурист, он же буквалист: «Излагаемая история не могла
произойти во Франции XVIII-го века, поскольку...» — следует
изложение причины. (Мне тоже иногда кажется, что
критиков-буквалистов быть не должно, но нет же, процветают.)
11.) Критик-нувеллист (моя тупость и необразованность (см п.8.)
заставляет меня прибегнуть к галлицизму в ущерб латинизмам и
отечественным терминам): «Сюжет не нов, автор мог слямзить его
где угодно.» (Да, это не ново, что сюжет не нов.)
12.) Критик-эстет: «Мне не нравится». (Мне тоже... Ах, простите, что
не нравится? Я думал, кажется, о другом.)
13.) Критик-стилист: «Слишком много золота, слишком яркие краски,
пошло, господа!» (Золото давно переплавлено на перья критиков
прошлых поколений, и пейзаж до непронизаемости черен от
критиканских чернил. О каких красках ведется речь?)
14.) Несколько разновидностей критиков-близнецов (неразлучны):
а) слишком мелко — слишком глубоко;
б) слишком просто — слишком сложно;
в) слишком фантастично — слишком
реалистично;
г) слишком длинно — слишком коротко;
д) слишком набожно — слишком безбожно;
е) слишком современно — слишком
старообразно (и все-таки, чаще — старообразно) и т. д.
15.) Я сам, поскольку мне тоже случается, хотя и без удовольствия,
сочинять рецензии, соединяю в себе пороки и достоинства
пунктов 1.) — 15.).
Случаются, разумеется, рецензии-полукровки. Бездарность критиков
доходит до того, что они не в состоянии прибиться к
какой-нибудь чистой породе, как элегантная дама — к стилю одежды. В
итоге возникает что-то вроде нижеследующего монстра-химеры,
опять же с моими комментариями в скобках.
«Читателя с обостренным чувством (вкрадчиво-сентиментальная
интродукция) обсуждаемая повесть (рассказ, роман, сборник) ничему не
научит (дешевый наставнический выпад), даже если оставить в
стороне вопрос о ее элементарной нереальности (чистейшей
воды пуризм). Автор не дает и не может дать, в силу отсутствия
минимального литературного дара (кульминационный бросок к
нигилизму) и бедности жизненного опыта (приветствую
эмпириков!) нам (читай: мне, критику) развернутой картины жизни
(диссонансно-социальный аккорд в финале)».
Однако, это было потом, а прежде была мама, для которой я был
слишком сыном своего отца, чтобы она могла углядеть во мне
сверхобычные способности. «Ты способный мальчик,— внушала она мне,—
но не талантливый и уж никак не гениальный. Надо устроиться
так, чтобы не считать каждый грош и иметь возможность вести
тихую интеллигентную жизнь».
Прежде был Стефан, который превосходил меня во всем. «Зачем тебе
это? — говорил он мне, когда я, глядя на Ганса, соорудил первый
неловкий стишок,— ты не поэт, ты не мудрец, тебе нечего
сказать миру, становись нормальным академическим ученым, а о
стихоплетстве лучше забудь». Прежде был Ганс, наконец, который
раньше, чем я, почувствовал себя поэтом, отдаваясь,
впрочем, своему чувству не больше двух-трех часов в неделю и только
по выходным. «Это забава,— недоумевал он,— как можно
полностью посвящать себя сочинительству? А если не получится
сделать карьеру?».
Не сразу привык я к своему сначала вынужденному, а потом свободно
избранному одиночеству, не сразу научился не замечать злобных
выпадов, как не сразу научился я не пользоваться услугами
общедоступных специалистов: терапевтов, психологов, поводов
для обращения к которым всегда хватало, несмотря на природный
иммунитет к разного рода агрессивным выпадам. Я далеко не
сразу понял, почему общедоступные консультанты ничем не могут
мне помочь.
— А чего же ты хочешь? — говаривал Стефан, принявший, хотя и не без
сопротивления, мою избранность,— все, чего можно коснуться,
без усилий протянув руку,— для средних, для простых. Твоя
доля — взобраться, преодолевая неимоверные трудности на
какую-нибудь вершину, которая, кстати, невидима для большинства
живущих, и поглядеть, не валяется ли там что-то, что сгодится
тебе в качестве временной замены главного. Перо
ангела, например.
— Пером ангела можно писать? — кощунствовал я.
— Да, недостойный, но макать его нужно в собственную кровь. Нет-нет,
тебе не придется искусственно надрезать свой трусливый
палец. Взбираясь на гору, ты и так обзаведешься немалым
количеством превосходно кровоточащих ран. Пока раны не затянутся, ты
сможешь писать. Перья ангелов недолговечны.
Меня немало покоробила физиологичность подхода, о чем я не замедлил
сообщить Стефану. Ну что за пошлость? Почему писать надо
непременно кровью? Это только ненужно привяжет к собственной
телесности, о которой как раз желательно забыть, занявшись
писанием. Я предпочел бы макать перо в росу, собирающуюся в
нежной глубине полузакрытых фиалковых чашечек в задумчивые и
остро-свежие предрассветные часы. Но главное Стефан понял: дух
и стиль литературного отрывка немало зависят от формы и
цвета пера, писавшего этот отрывок и от состава чернил.
— Ах так,— протянул Стефан,— мы брезгуем собственной телесностью? Ну
что же, в таком случае не бойся прослыть чистым эстетом.
Литература — не земледелие, можно попытаться обойтись и без
навоза.
Я хотел бы быть чистым эстетом, но у меня умерла мать. Я хотел бы
быть чистым эстетом, но отец мой тоже умер. Я хотел бы быть
чистым эстетом, но все радости мира обошли меня, кроме одной,
главной — возможности раз в несколько лет, одно, уносящееся
в вечность, мгновение побыть чистым эстетом.
Чистая эстетика — род духовной свободы. Раз в несколько лет с поэта,
(а, может быть, и с любого смертного, но простые смертные
не склонны замечать этого) снимают путы и говорят: делай, что
хочешь, мир твой, и ты свободен. Но с путами опадают и
другие оболочки, и по миру, для которого ты вовсе не невидим,
следует пройти нагим.
Чистый эстет — голый эстет. В век, который мало напоминает золотой,
и в котором не принято разгуливать нагишом, ему трудно не
вспомнить об одеждах. Стоит это сделать, и вот — он уже
стыдливо прикрывает наготу тонкими пальцами, и вожделенная свобода
покидает его до того момента, когда он готов разоблачиться
опять и показать миру все свои пороки за одно-единственное
вдыхание аромата дивного цветка, память о котором пройдет
через все последующие годы тягот и через все его стихи.
Досточтимый поэт, в земной жизни нет ничего лучше этого. Закрывающий
глаза в ночной тиши, жаждущий нескончаемых снов, заболевший
болезнью невозможности, поэт, будь эстетом!
Если ты услышишь, что к тебе подползает змея, не открывай глаза и не
шевелись — ты все равно связан и не сможешь убежать. Если
подойдет к тебе собака и начнет облаивать тебя, не сторонись,
быть может, она хочет навеки перегрызть твои путы.
Ах, Стефан, перья ангелов падают с небес, за ними не нужно никуда
забираться! Горы? Какие, право, горы...
Продолжение следует.
Оглавление романа Viva Fati:
- Via Fati. Часть 1. Глава 22. Двойник
- Via Fati. Часть 1. Глава 21. Вечные штудии
- Via Fati. Часть 1. Глава 20. Что за книга?
- Via Fati. Часть 1. Глава 19. Стоит ли бегать от собственности
- Via Fati. Часть 1. Глава 18. Горе господина Вайнмайстера
- Via Fati. Часть 1. Глава 17. Победа господина Вайнмайстера
- Via Fati. Часть 1. Глава 16. Счастливчик
- Via Fati. Часть 1. Глава 15. Фабиан
- Via Fati. Часть 1. Глава 14. Монастырь
- Via Fati. Часть 1. Глава 13. Конец
- Via Fati. Часть 1. Глава 12. Тилли
- Via Fati. Часть 1. Глава 11. Праведник и блудница
- Via Fati. Часть 1. Глава 10. Измена
- Via Fati. Часть 1. Глава 9. Единственная
- Via Fati. Часть 1. Глава 8. Лиза
- Via Fati. Часть 1. Глава 7. Неожиданные открытия
- Via Fati. Часть 1. Глава 6. Триумвират
- Via Fati. Часть 1. Глава 5. Солнце прекрасного дня
- Via Fati. Часть 1. Глава 4. Греция
- Via Fati. Часть 1. Глава 3. К истокам того, чего никогда не было
- Via Fati. Часть 1. Глава 2. Что-то переменилось
- Via Fati. Часть 1. Глава 1. Поэт и его возлюбленная
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

